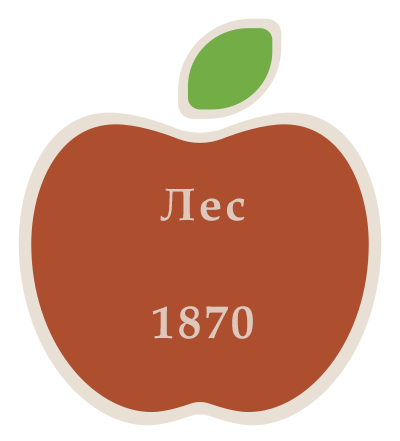Л Е С
мальчик Восмибратова.
пеший путешественник.
пеший путешественник.
Лес: две неширокие дороги идут с противоположных сторон из глубины сцены и сходятся близ авансцены под углом. На углу крашеный столб, на котором, по направлению дорог, прибиты две доски с надписями; на правой: «В город Калинов», на левой: «В усадьбу Пеньки, помещицы г-жи Гурмыжской». У столба широкий, низенький пень, за столбом, в треугольнике между дорогами, по вырубке мелкий кустарник не выше человеческого роста. Вечерняя заря.
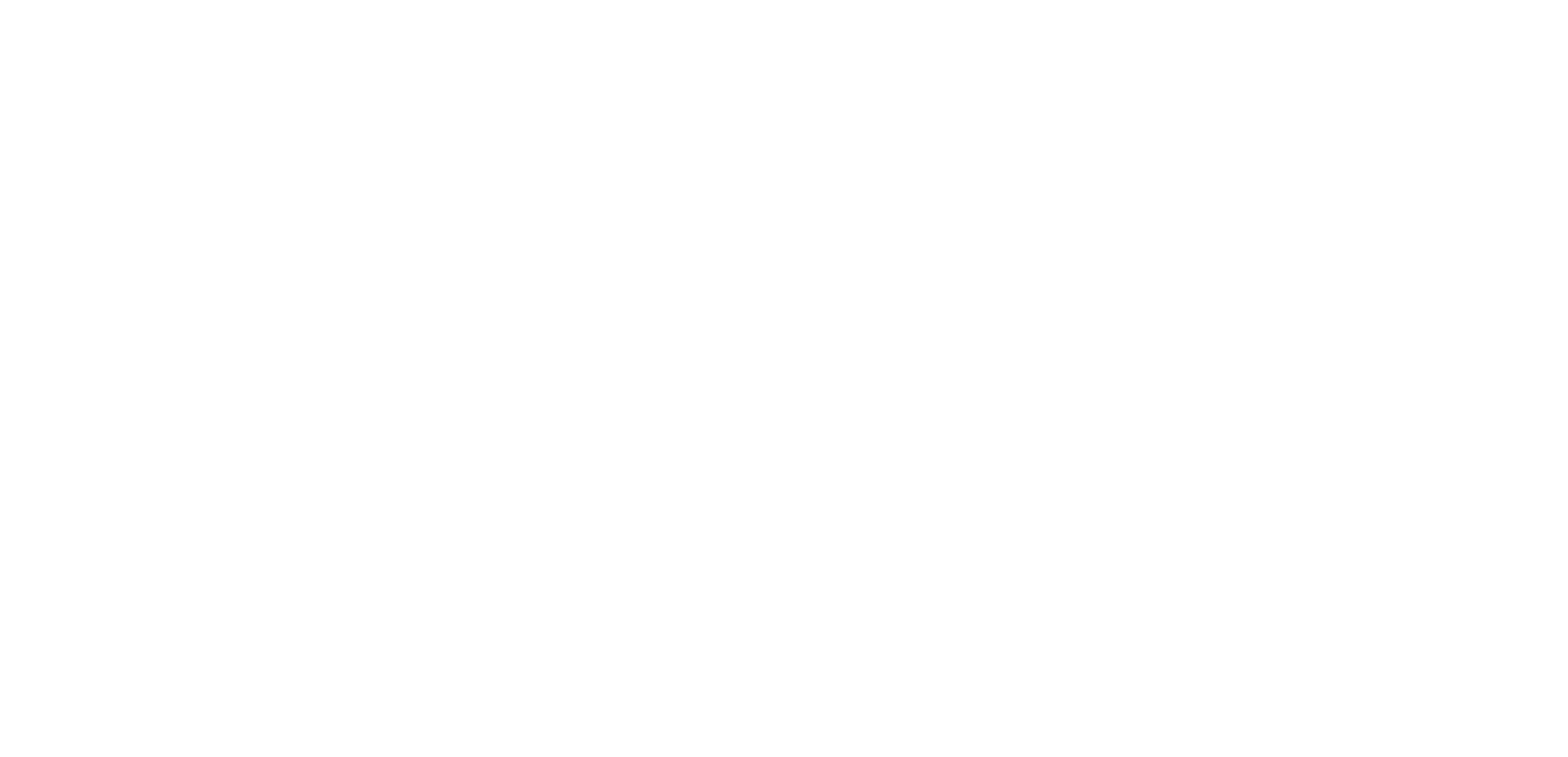
Эскиз задника к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1974 г. Художник А. П. Васильев. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
П Ё Т Р (громко). Терёнька!
Из лесу выходит мальчик/
Влезь на дерево там, с краю, и, значит, смотри по дороге в оба... Да ты не засни, а то кто-нибудь застрелит заместо тетерева. Слышишь?
М А Л Ь Ч И К (робко). Слышу.
П Ё Т Р. Как, значит, тятенька, ты в те поры так и катись с дерева турманом*, и прямо сюда. (Поворачивает его и даёт ему легкий подзатыльник.) Ну, пошёл.
Мальчик отходит.
Да, пожалуйста, братец, поразвязней!
Мальчик уходит в лес.
А К С Ю Ш А (подходя к Петру). Здравствуй, Петя!
П Ё Т Р (целуя её). Здравствуй; какие дела?
А К С Ю Ш А. Всё те же, немножко хуже.
П Ё Т Р. А мы так наслышаны, что много лучше.
А К С Ю Ш А. Что ты сочиняешь!
П Ё Т Р. За благородного* выходите? Оно лучше-с; может, ещё на разные языки знает; и то уж много превосходнее, что пальты коротенькие носит*, не то что мы.
А К С Ю Ш А (зажимая ему рот). Да полно ты, полно! Ведь знаешь, что этому не бывать, что ж прибираешь-то*?
П Ё Т Р. Как же, значит, не бывать, когда тётенька сами давеча...
А К С Ю Ш А. Не бойся, не бойся!
П Ё Т Р. Так уж ты прямо и говори, чья ты? Своя ты или чужая?
А К С Ю Ш А. Своя, милый мой, своя. Да, кажется, меня и неволить не будут. Тут что-то другое.
П Ё Т Р. Отвод?
А К С Ю Ш А. Похоже.
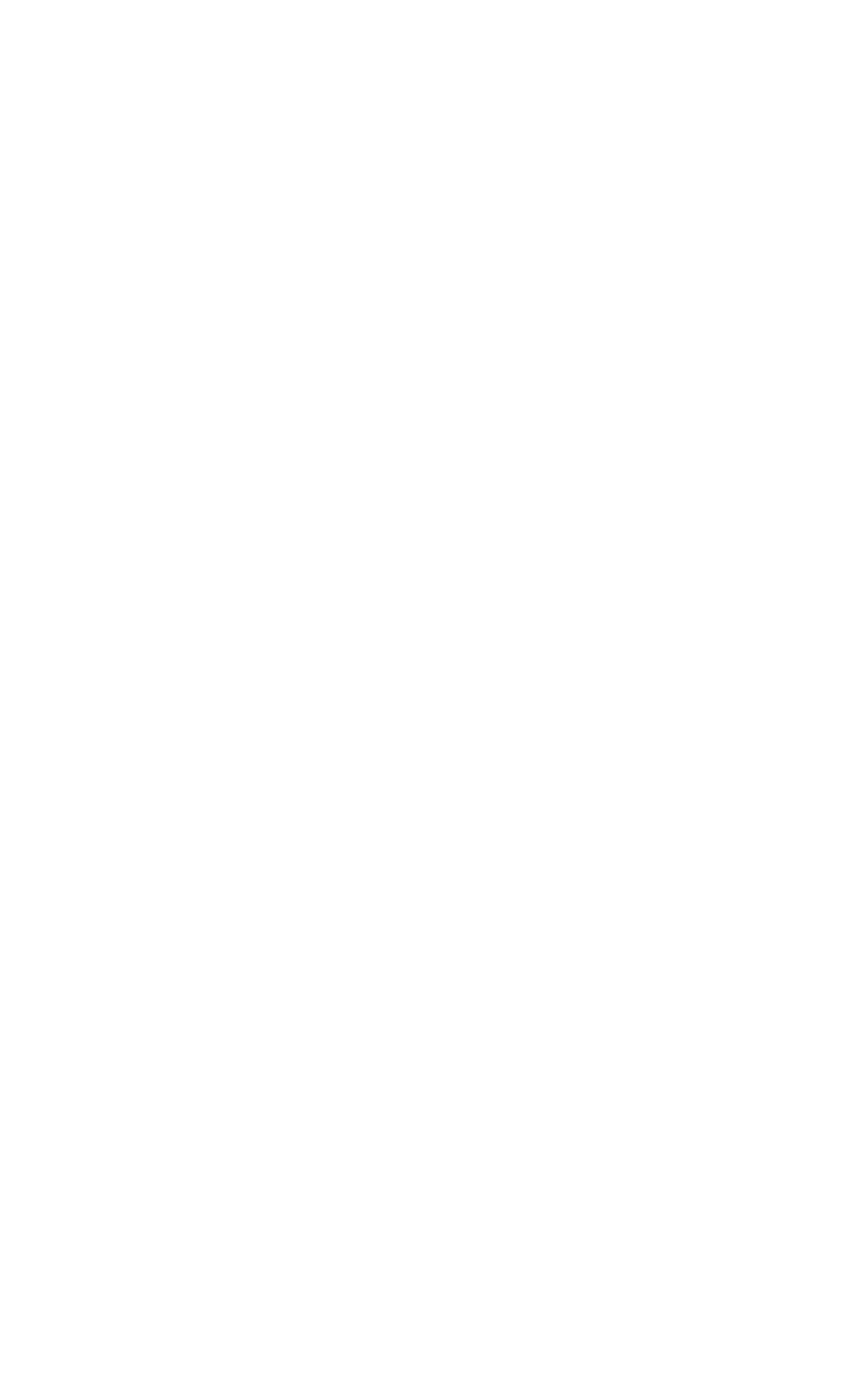
Эскиз костюма Аксюши к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
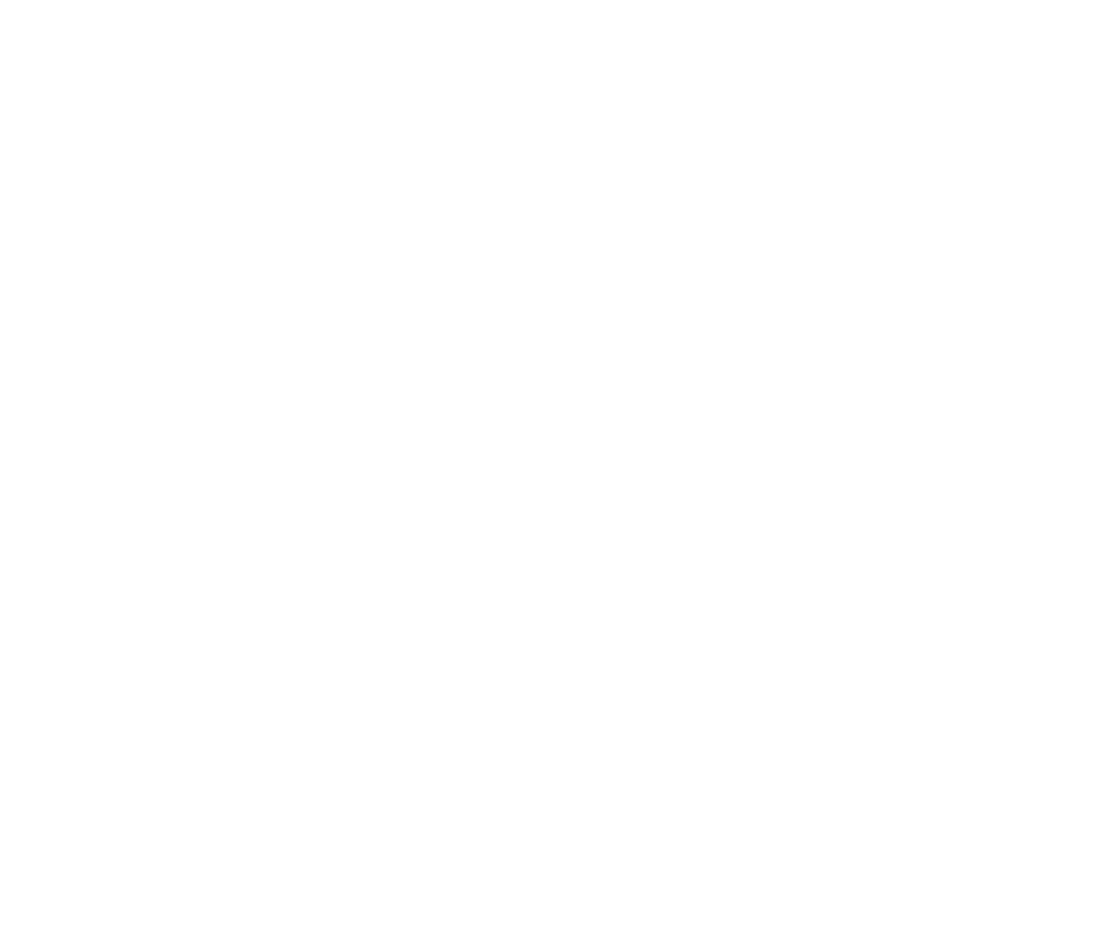
Эскиз декорации ко 2 действию спектакля «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
А К С Ю Ш А. Она бы рада меня с рук сбыть, да денег жаль. Что ж, отец-то твой все ещё приданого ищет?
П Ё Т Р. Меньше трех тысяч не мирится. «Ежели, говорит, за тебя трех тысяч не взять, не стоило, говорит, тебя и кормить. Хоть на козе, говорит, женю, да с деньгами».
П Ё Т Р. Я-то чужой, про меня что говорить! Я каторжный, по рукам, по ногам скованный навеки нерушимо.
А К С Ю Ш А. Что ты такой грустный, неласковый?
П Ё Т Р. Да чему радоваться-то? Я и то уж по лесу-то хожу, да все на деревья посматриваю, который сук покрепче. Самой-то, чай, тоже не веселей моего.
А К С Ю Ш А. Мне ни скучно, ни весело, я уж замерла давно. А ты забудь свое горе на время-то, пока я с тобой!
П Ё Т Р. Так-то так, да все радости-то мало.
А К С Ю Ш А. Ах ты, глупый! Как же тебе не радость, какая девушка тебя любит.
П Ё Т Р. Да что ж меня не любить-то? Я не мордва некрещёная*. Да что вам делать-то больше, как не любить? Ваша такая обязанность.
А К С Ю Ш А (сердито). Поди ты прочь, коли так.
П Ё Т Р. Нечего сердиться-то! У меня теперь засад в голове, — третий день думаю, да мозги что-то плохо поворачиваются; и так кину, и этак...
А К С Ю Ш А (всё ещё с сердцем). Об чем это ты думаешь? Ты бы обо мне-то подумал; нужно ведь подумать-то.
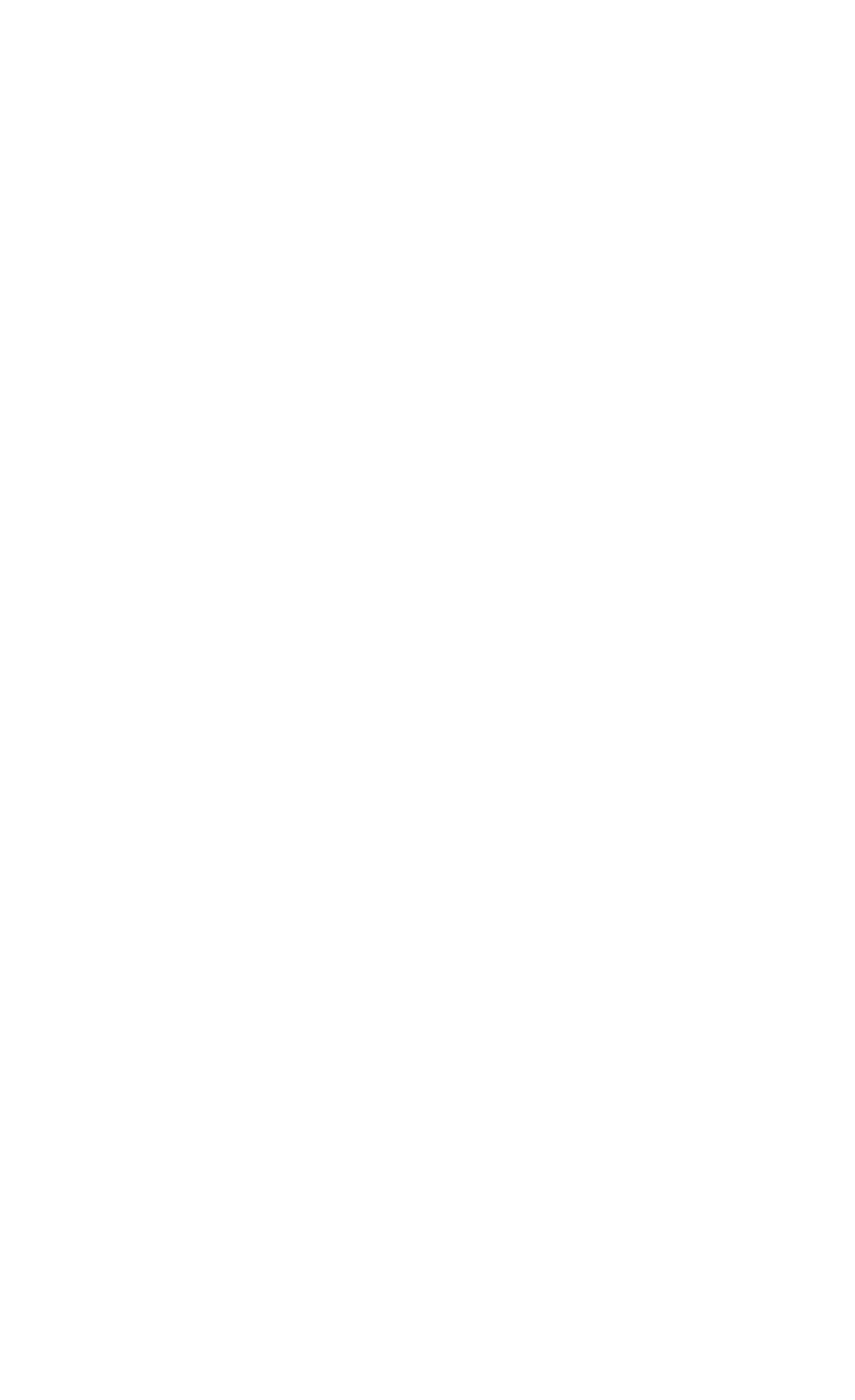
Эскиз костюма Петра к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
П Ё Т Р. О тебе-то и думаю. У меня надвое; вот одно дело: приставать к тятеньке. Нынче он, примерно, поругает, а я завтра опять за то же. Ну, завтра, будем так говорить, хоть и прибьёт, а я послезавтра опять за то же; так, покудова ему не надоест ругаться. Да чтоб уж кряду, ни одного дня не пропускать. Либо он убьёт меня поленом, либо сделает по-моему; по крайности развязка.
А К С Ю Ш А (подумав). А другое-то что?
П Ё Т Р. А другое дело почудней будет. У меня есть своих денег рублёв триста; да ежели закинуть горсть* на счастье в тятенькину конторку, так пожалуй что денег-то и вволю будет.
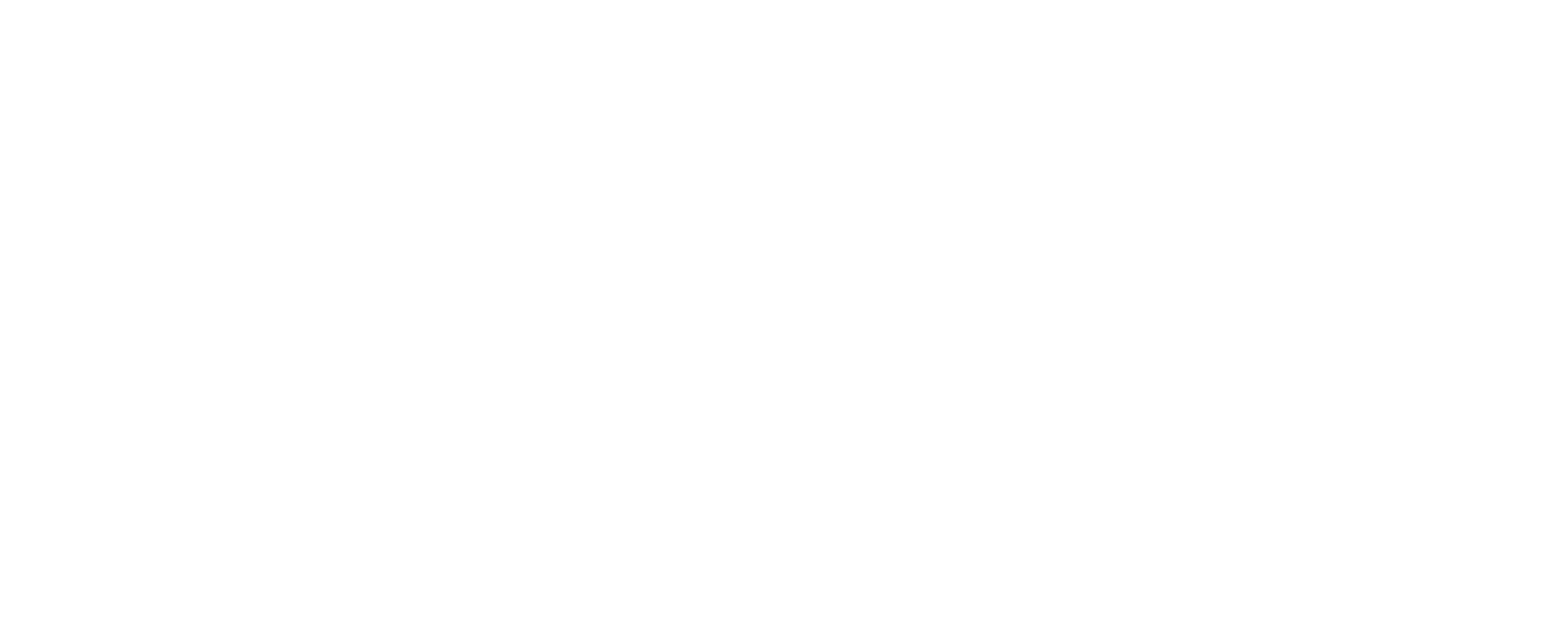
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1974 г. Художник А. П. Васильев. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
А К С Ю Ш А. А потом что ж?
П Ё Т Р. А потом уж «унеси ты моё горе»* — сейчас мы с тобой на троечку*; «ой вы, милые!» Подъехали к Волге; ссь... тпру! на пароход; вниз-то бежит он ходко, по берегу-то не догонишь. Денёк в Казани, другой в Самаре, третий в Саратове; жить, чего душа просит; дорогого чтоб для нас не было.
А К С Ю Ш А. А знакомых встретишь?
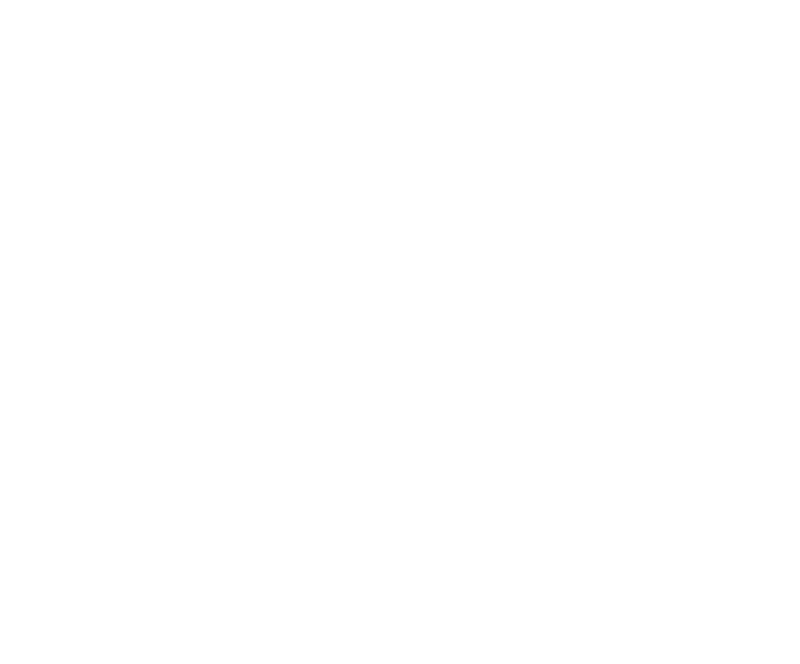
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1974 г. Художник А. П. Васильев. Из фондов Красноярского художественного музея имени В. И. Сурикова.
П Ё Т Р. А вот взял сейчас один глаз зажмурил, вот тебе и кривой; и не узнают. Я так тебе дня три прохожу. А то еще раз какой со мной случай, я тебе скажу. Посылал меня тятенька в Нижний* за делом, да чтоб не мешкать. А в Нижнем-то нашлись приятели, заманили в Лысково съездить. Как быть? Узнают дома — беда. Вот я чужую чуйку* надел, щеку подвязал, еду. На пароходе как раз тятенькин знакомый; я, знаешь, от него не прячусь, хожу смело, он все поглядывает. Вот вижу, подходит. «Вы, говорит, откуда едете?» — «Из Мышкина», — говорю. А я там сроду и не бывал. «Что-то, говорит, лицо ваше знакомо». — «Мудрёного нет», — говорю; а сам, знаешь, мимо. Подходит он ко мне в другой раз все с тем же, подходит в третий, все пытает. Взяло меня за сердце. «Мне самому, говорю, лицо ваше знакомо. Не сидели ли мы с вами вместе в остроге* в Казани?» Да при всей публике-то. Так он не знал, как откатиться от меня; ровно я его из штуцера* застрелил. Встреча что!
А К С Ю Ш А. А проживём мы деньги, что ж потом?
П Ё Т Р. Вот тут-то я не додумал ещё. Либо ехать виниться, либо выбрать яр* покруче, а место поглубже, да чтоб воду-то воронкой вертело, да и по-топорному, как топоры плавают. Надо подумать ещё...
А К С Ю Ш А. Нет, уж ты, Петя, лучше первое-то попробуй.
П Ё Т Р. Надоедать, стало быть?
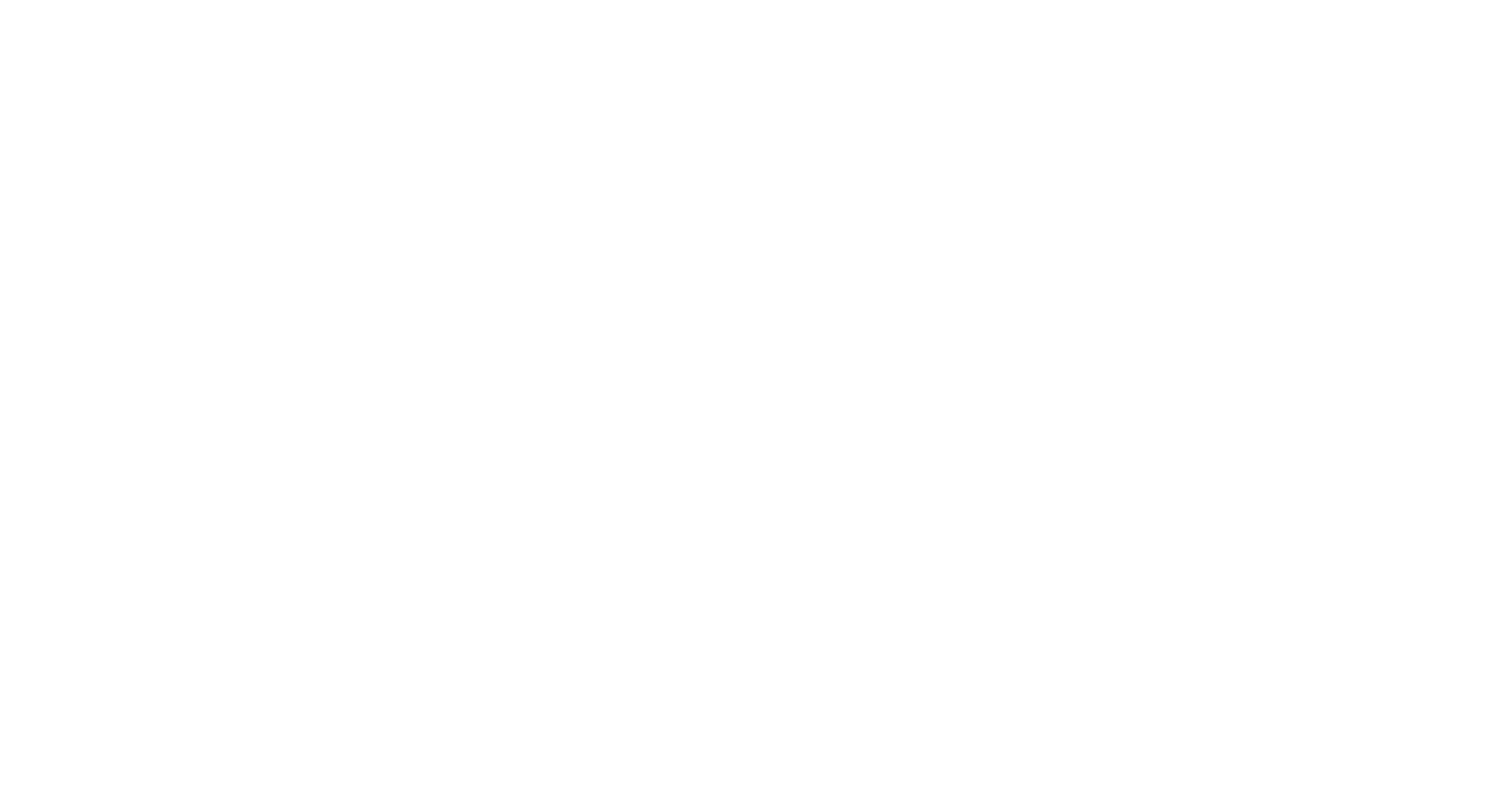
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Ленинградского государственного академического театра драмы (Госдрама). 1936 г. Художник А. И. Константиновский. Из фондов СПбГТБ.
А К С Ю Ш А. Да. Ну, а уж там, коли... там подумаем. Ты проберись завтра к нам в сад попозднее, у нас рано ложатся.
П Ё Т Р. Ладно.
Вбегает мальчик.
Что?
М А Л Ь Ч И К. Тятенька. (Быстро убегает.)
П Ё Т Р (проворно). Значит, шабаш*. Бежать во все лопатки! Прощай!
Целуются и расходятся.
С правой стороны из глубины показывается Несчастливцев. Ему лет 35, но на лицо он гораздо старее, брюнет, с большими усами. Черты резкие, глубокие и очень подвижные, следы беспокойной и невоздержной жизни. На нем длинное и широкое парусиновое пальто, на голове серая, очень поношенная шляпа, с широкими полями, сапоги русские, большие, в руках толстая, суковатая палка, за спиной небольшой чемодан, вроде ранца, на ремнях. Он, видимо, утомлён, часто останавливается, вздыхает и бросает мрачные взгляды исподлобья. В то же время с другой стороны показывается Счастливцев; ему лет за 40, лицо как будто нарумяненное, волоса на голове вроде вытертого меха, усы и эспаньолка* тонкие, жидкие, рыжевато-пепельного цвета, глаза быстрые, выражающие и насмешливость и робость в одно и то же время. На нем голубой галстук, коротенький пиджак, коротенькие панталоны в обтяжку, цветные полусапожки, на голове детский картузик* — всё очень поношенное, на плече, на палке, повешено самоё лёгкое люстриновое* пальто и узел в цветном платке. Утомлён, переводит дух тяжело и смотрит кругом с улыбкой, не то печальной, не то весёлой. Сходятся.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (мрачно). Аркашка!
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Я, Геннадий Демьяныч. Как есть весь тут.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Куда и откуда?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Из Керчи в Вологду. Ты пешком?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. На своих-с, Геннадий Демьяныч. (Полузаискивающим-полунасмешливым тоном.) А вы-с, Геннадий Демьяныч?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (густым басом). В карете. (Горячо.) Разве ты не видишь? Что спрашиваешь? Осёл!
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (робко). Нет, я так-с...
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Сядем, Аркадий!
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да на чём же-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (указывая на пень). Я здесь, а ты где хочешь. (Садится, снимает чемодан и кладёт подле себя.)
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Что это у вас за ранец-с?
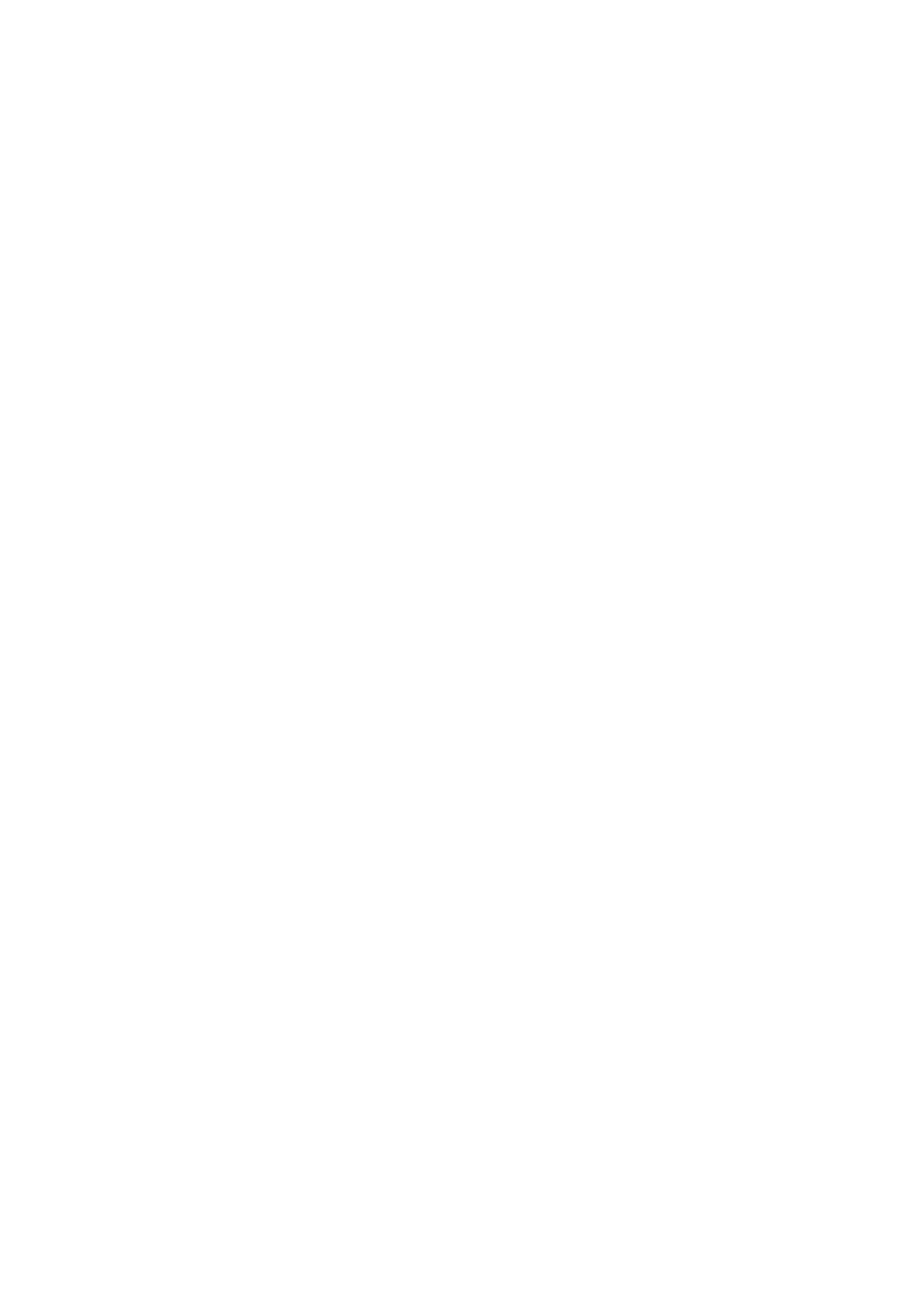
Эскиз костюма Несчастливцева к спектаклю «Лес» ЛГИТМиКа. 1967 г. Художник И. Г. Сегаль. Из фондов СПбГТБ.
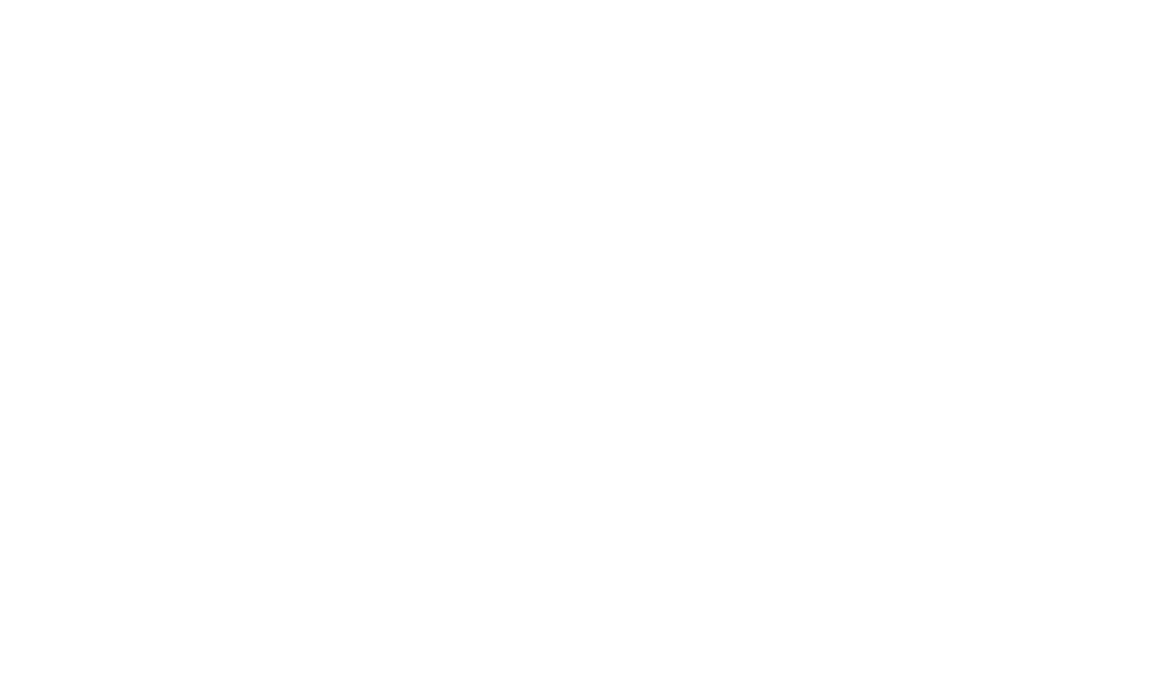
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Ленинградского государственного академического театра драмы (Госдрама). 1936 г. Художник А. И. Константиновский.
Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (садится на землю подле пня). Хорошо, кому есть что класть. Что же у вас там-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Пара платья, братец, хорошего, в Полтаве еврей сшил. Тогда я в Ильинскую*, после бенефиса, много платья сделал. Складная шляпа, братец, два парика, пистолет тут у меня хороший, у черкеса в карты выиграл в Пятигорске. Замок попорчен; как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет; был фрак, да я его в Кишинёве на костюм Гамлета выменял.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да на что же вам фрак-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Как ты ещё глуп, Аркашка, как погляжу я на тебя! Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в Тверь, поступлю в труппу, — должен я к губернатору явиться, к полицеймейстеру, по городу визиты сделать? Комики визитов не делают, потому что они шуты, а трагики — люди, братец. А у тебя что в узле?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Библиотека-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Большая?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Пиес тридцать и с нотами.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (басом). Драмы есть?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Только две-с, а то всё водевили.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Зачем ты такую дрянь носишь?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Денег стоит-с. Бутафорские мелкие вещи есть, ордена...
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. И все это ты стяжал?..
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. И за грех не считаю, жалованье задерживают.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А платье у тебя где ж?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Вот, что на мне-с, а то уж давно никакого нет-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ну, а как же ты зимой?
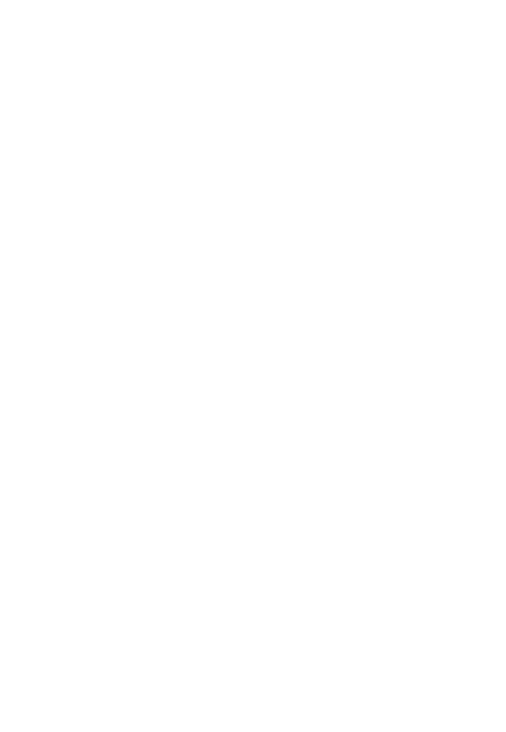
Эскиз костюма Счастливцева к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1921 г. Художник Д. Н. Кардовский. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Я, Геннадий Демьяныч, обдержался-с. В дальнюю дорогу точно трудно-с; так ведь кто на что, а голь на выдумки. Везли меня в Архангельск, так в большой ковёр закатывали. Привезут на станцию, раскатают, а в повозку садиться, опять закатают.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Тепло?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ничего, доехал-с; а много больше тридцати градусов было. Зимняя дорога-то Двиной, между берегов-то тяга; ветер-то с севера, встречу. Так вы в Вологду-с? Там теперь и труппы нет.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А ты в Керчь? И в Керчи тоже, брат, труппы нет.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Что же делать-то-с, Геннадий Демьяныч, пройду в Ставрополь или в Тифлис, там уж неподалёку-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Мы с тобой в последний раз в Кременчуге виделись?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. В Кременчуге-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ты тогда любовников играл; что же ты, братец, после делал?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. После я в комики перешёл-с. Да уж очень много их развелось; образованные одолели: из чиновников, из офицеров, из университетов — все на сцену лезут. Житья нет. Из комиков-то я в суфлёры-с. Каково это для человека с возвышенной душой-то, Геннадий Демьяныч? В суфлёры!..
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (со вздохом). Все там будем, брат Аркадий.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Одна была у нас дорожка, Геннадий Демьяныч, и ту перебивают.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Оттого, что просто; паясничать-то хитрость не велика. А попробуй-ка в трагики! Вот и нет никого.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А ведь игры хорошей у образованных нет, Геннадий Демьяныч.
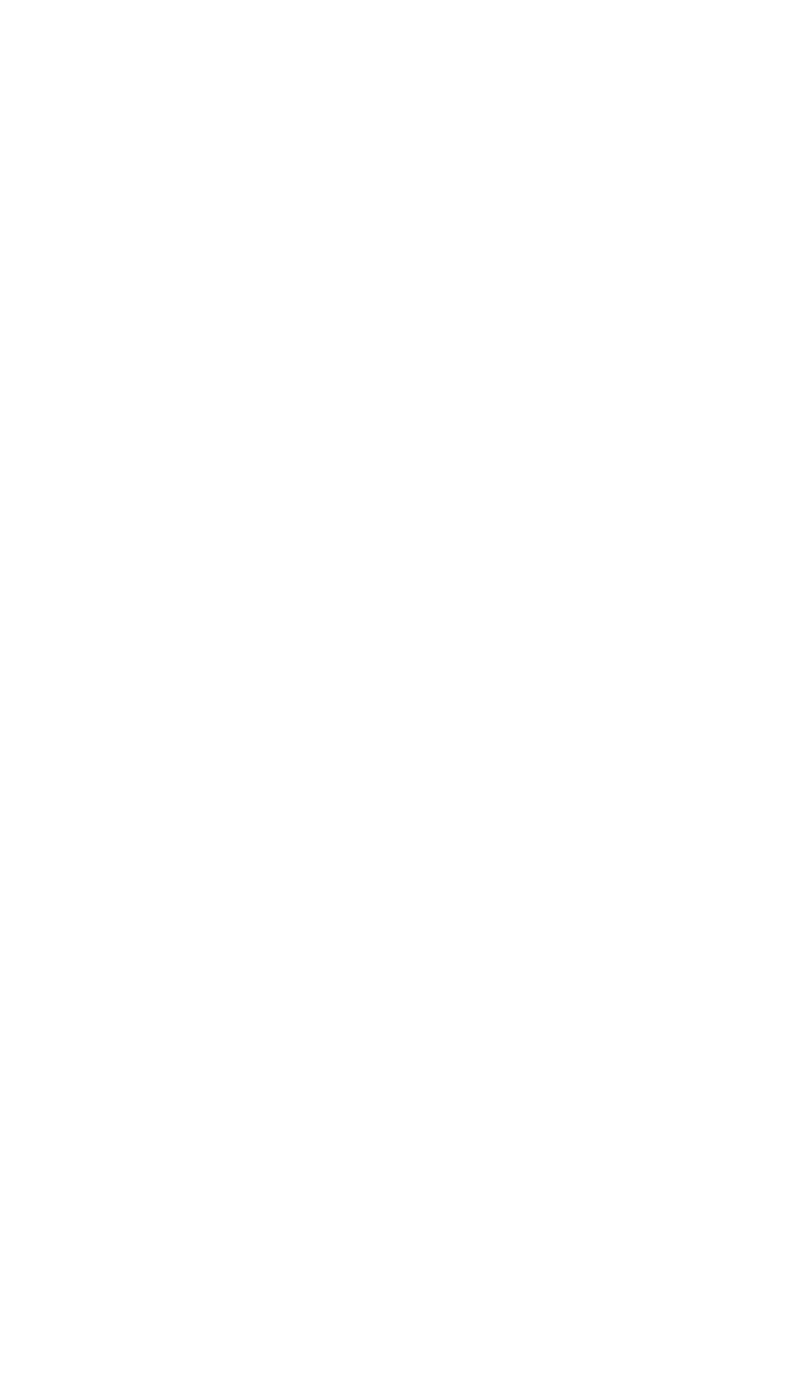
Эскиз костюма Несчастливцева к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Канитель.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Канитель, братец. А как пьесы ставят, хоть бы и в столицах-то. Я сам видел: любовник тенор, резонёр тенор и комик тенор*; (басом) основания-то в пьесе и нет. И смотреть не стал, ушёл. Ты зачем это эспаньолку завёл?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А что же-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Скверно. Русский ты человек али нет? Что за гадость? Терпеть не могу. Обрей совсем или уж бороду отпусти.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Я пробовал бороду-с, да не выходит.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Как так? Что ты врёшь?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да вместо волос-то перья растут, Геннадий Демьяныч.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Гм! Перья! Рассказывай ещё! Говорю тебе, обрей. А то попадёшь мне под сердитую руку... с своей эспаньолкой... смотри!
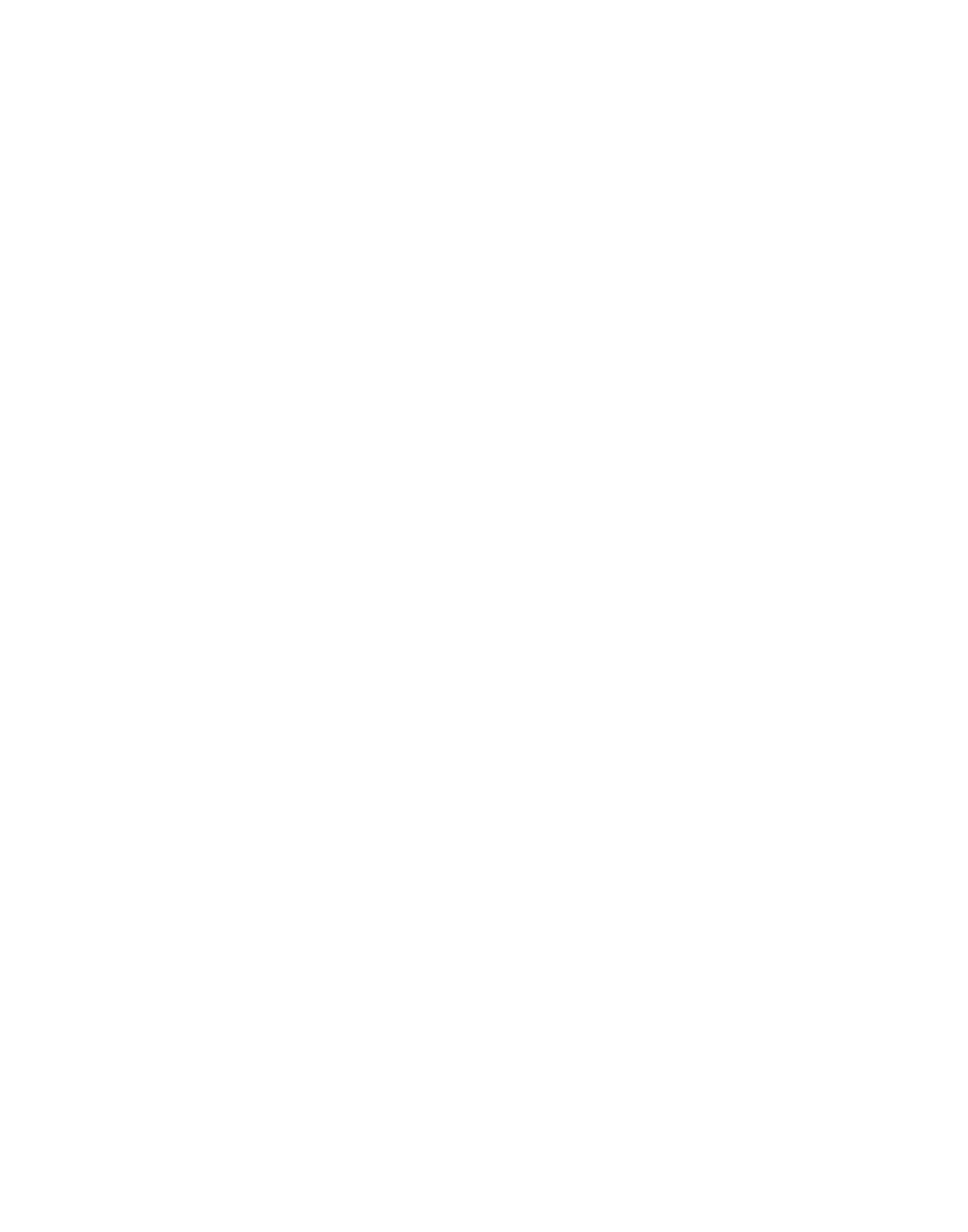
Эскиз костюма Счастливцева к спектаклю «Лес» ЛГИТМиКа. 1967 г. Художник И. Г. Сегаль. Из фондов СПбГТБ.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (робко). Обрею-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А я, брат Аркаша, там, на юге, расстроился совсем.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Отчего же так-с, Геннадий Демьяныч?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Характер, братец. Знаешь ты меня: лев ведь я. Подлости не люблю, вот моё несчастие. Со всеми антрепренёрами перессорился. Неуважение, братец, интриги; искусства не ценят, все копеечники. Хочу у вас, на севере, счастья попробовать.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да ведь и у нас то же самое, и у нас не уживётесь, Геннадий Демьяныч. Я вот тоже не ужился.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ты... тоже!.. Сравнял ты себя со мной.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (обидясь). Ещё у меня характер-то лучше вашего, я смирнее.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (грозно). Что-о?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (отодвигаясь). Да как же, Геннадий Демьяныч-с? Я смирный, смирный-с... Я никого не бил.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Так тебя били, кому только не лень было. Ха-ха-ха! И всегда так бывает: есть люди, которые бьют, и есть люди, которых бьют. Что лучше — не знаю: у всякого свой вкус. И смеешь ты...
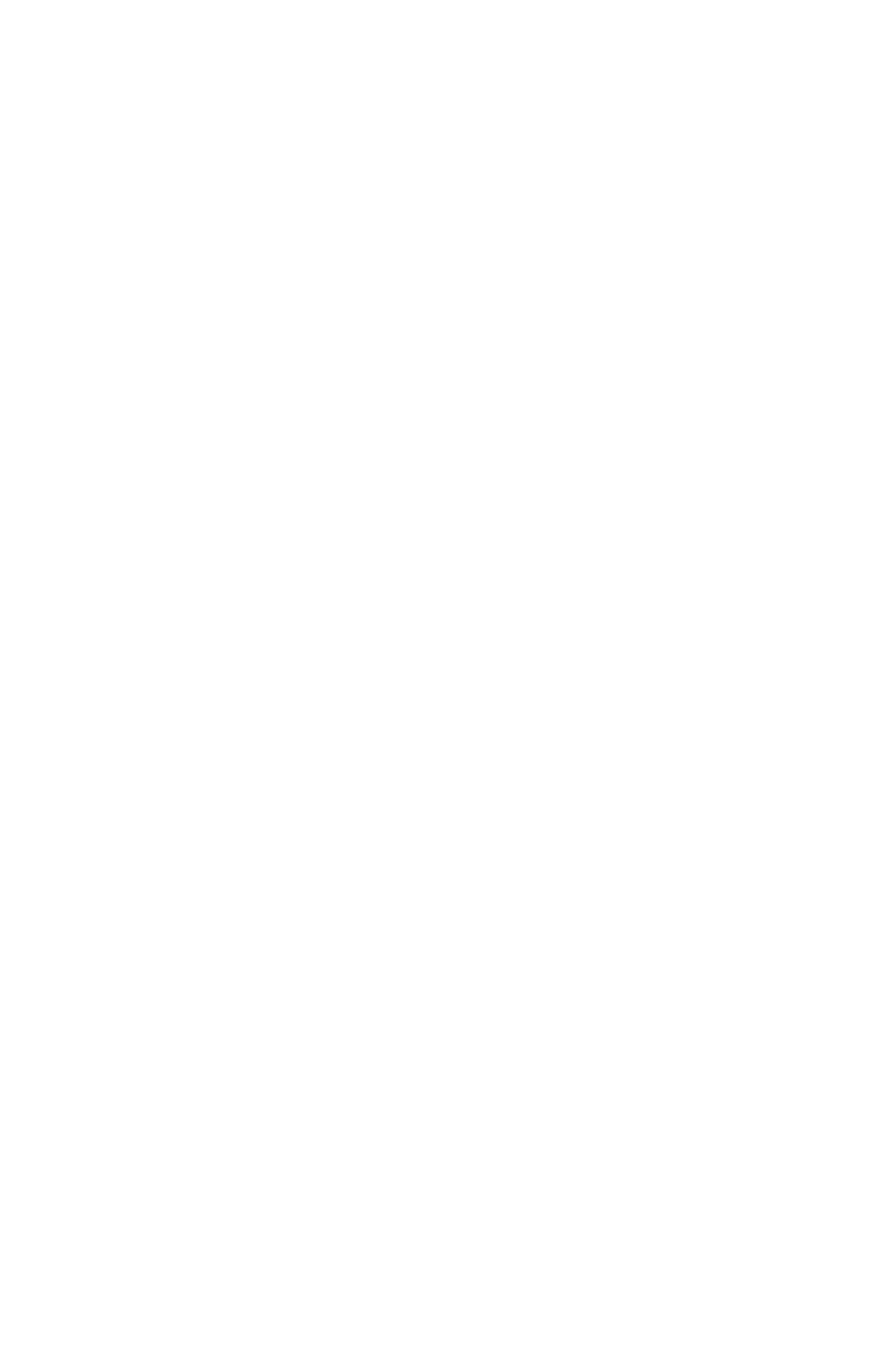
Эскиз костюма Счастливцева к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (отодвигаясь). Ничего я не смею, а вы сами сказали, что не ужились.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Не ужились?.. А тебя из какого это города губернатор-то выгнал? Ну, сказывай!
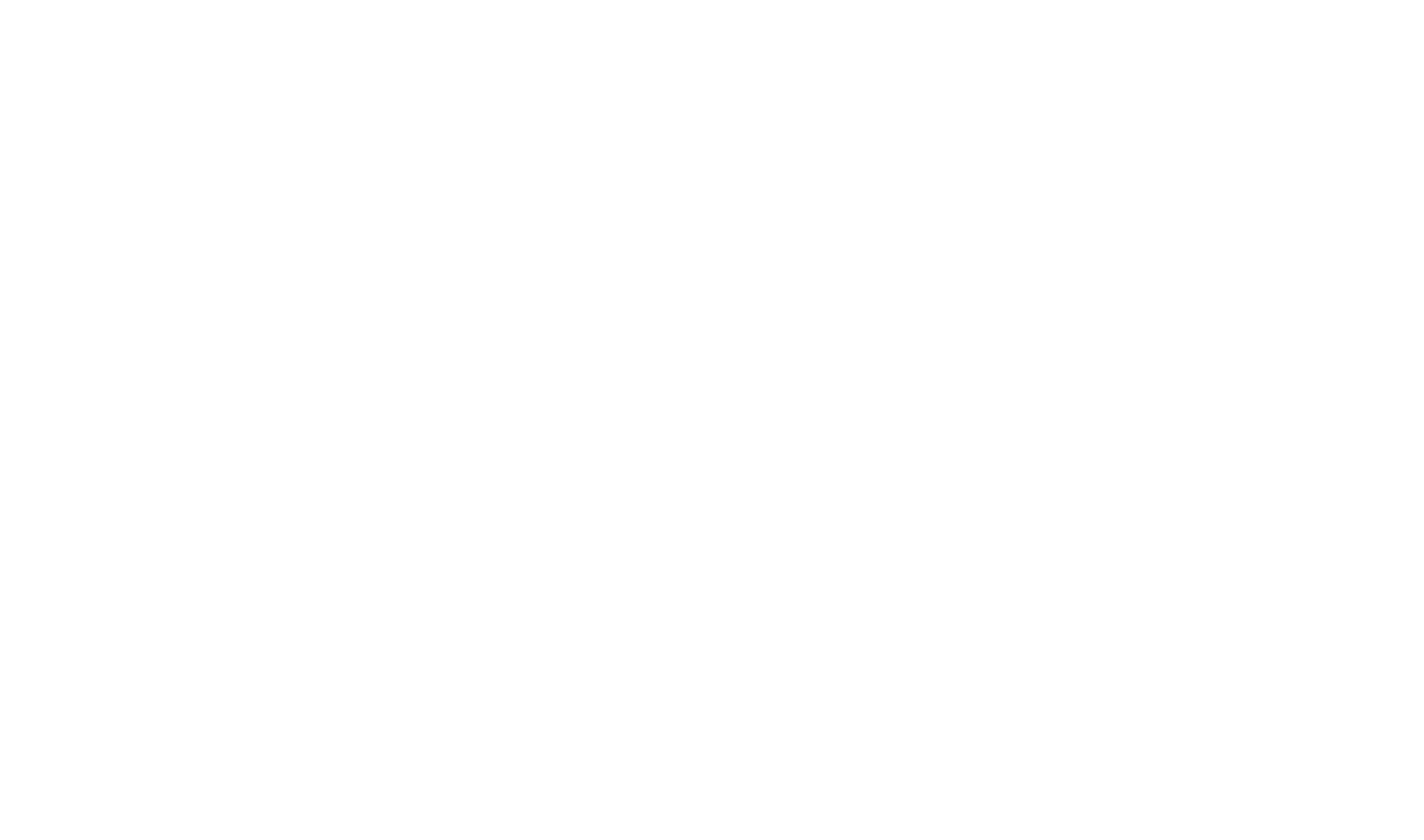
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Горьковского драматического театра. 1948 г. Художник К. И. Иванов. Из фондов Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Что сказывать-то? Мало ли что болтают. Выгнал... А за что выгнал, как выгнал?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Как выгнал? И то слышал, и то известно, братец. Три раза тебя выбивали из города; в одну заставу выгонят, ты войдёшь в другую. Наконец уж губернатор вышел из терпения: стреляйте его, говорит, в мою голову, если он ещё воротится.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Уж и стрелять! Разве стрелять можно?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Совсем и не четыре.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ну, будет, Аркадий! Не раздражай ты меня, братец! (Повелительно.) Подвигайся! (Встаёт.)
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Подвигаюсь, Геннадий Демьяныч. (Встаёт.)
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да, брат Аркадий, разбился я с театром; а уж и жаль теперь. Как я играл! Боже мой, как я играл!
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (робко). Очень хорошо-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да так-то хорошо, что... Да что с тобой толковать! Что ты понимаешь! В последний раз в Лебедяни играл я Велизария*, сам Николай Хрисанфыч Рыбаков* смотрел. Кончил я последнюю сцену, выхожу за кулисы, Николай Рыбаков тут. Положил он мне так руку на плечо... (С силою опускает руку на плечо Счастливцеву.)
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (приседая от удара). Ой! Геннадий Демьяныч, батюшка, помилосердуйте! Не убивайте! Ей-богу, боюсь.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ничего, ничего, брат; я легонько, только пример... (Опять кладёт руку.)
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ей-богу, боюсь! Пустите! Меня ведь уж раз так-то убили совсем до смерти.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (берёт его за ворот и держит). Кто? Как?
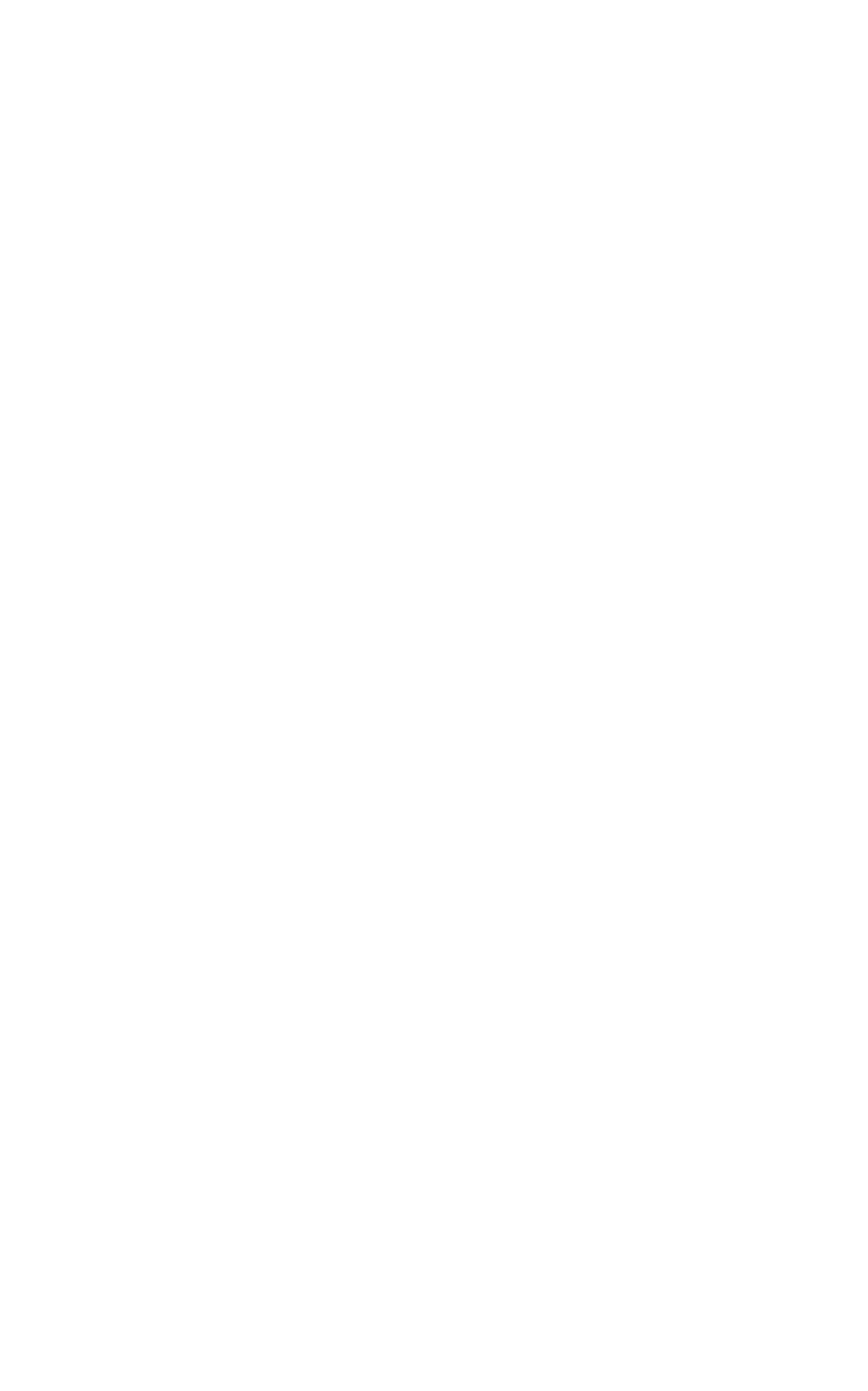
Эскиз костюма Несчастливцева к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (жмётся). Бичёвкин*. Он Ляпунова играл, а я Фидлера-с*. Еще на репетиции он все примеривался. «Я, говорит, Аркаша, тебя вот как в окно выкину: этой рукой за ворот подниму, а этой поддержу, так и высажу. Так, говорит, Каратыгин* делал». Уж я его молил, молил, и на коленях стоял. «Дяденька, говорю, не убейте меня!» — «Не бойся, говорит, Аркаша, не бойся!» Пришёл спектакль, подходит наша сцена; публика его принимает; гляжу: губы у него трясутся, щеки трясутся, глаза налились кровью. «Постелите, говорит, этому дураку под окном что-нибудь, чтоб я в самом деле его не убил». Ну, вижу, конец мой приходит. Как я пробормотал сцену — уж не помню; подходит он ко мне, лица человеческого нет, зверь зверем; взял меня левою рукой за ворот, поднял на воздух; а правой как размахнётся, да кулаком меня по затылку как хватит... Света я невзвидел, Геннадий Демьяныч, сажени* три от окна-то летел, в женскую уборную дверь прошиб. Хорошо трагикам-то! Его тридцать раз за эту сцену вызвали; публика чуть театр не разломала, а я на всю жизнь калекой мог быть, немножко бог помиловал... Пустите, Геннадий Демьяныч!
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (держит его за ворот). Эффектно! Надо это запомнить. (Подумав.) Постой-ка! Как ты говоришь? Я попробую.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В (падая на колени). Батюшка, Геннадий Демьяныч!..
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В (выпускает его). Ну, не надо, убирайся! В другой раз... Так вот положил он мне руку на плечо. «Ты, говорит... да я, говорит... умрём, говорит»... (Закрывает лицо и плачет. Отирая слезы.) Лестно. (Совершенно равнодушно.) У тебя табак есть?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Какой табак, помилуйте! Крошки нет.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Как же ты в дорогу идёшь, а табаком не запасся? Глуп.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да ведь и у вас нет?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. «У вас нет». Смеешь ты мне это говорить? У меня такой был, какого ты и не видывал, одесский, первый сорт от Криона*, да теперь вышел.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. И у меня тоже вышел-с.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. А денег с тобой много?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. У меня и сроду много-то не было, а теперь копейки за душой нет.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Как же в дорогу без денег-то? Без табаку и без денег. Чудак!
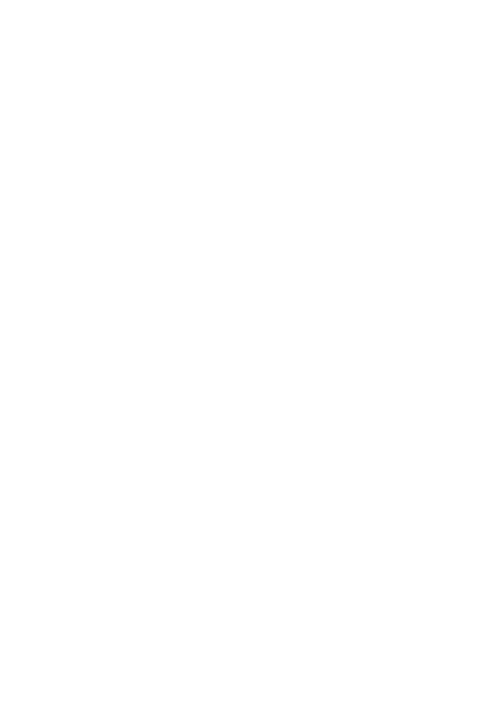
Эскиз костюма Счастливцева к спектаклю «Лес» Малого театра (Москва). 1921 г. Художник Д. Н. Кардовский. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Лучше, не ограбят-с. Да разве не все равно без денег-то, что на месте сидеть, что по дороге идти?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ну, до Воронежа, положим, ты с богомольцами дойдёшь, христовым именем пропитаешься; а дальше-то как? Землёй войска Донского? Там, не то что даром, а и за деньги не накормят табачника. Облика христианского на тебе нет, а ты хочешь по станицам идти: ведь казачки-то тебя за беса сочтут — детей стращать станут.
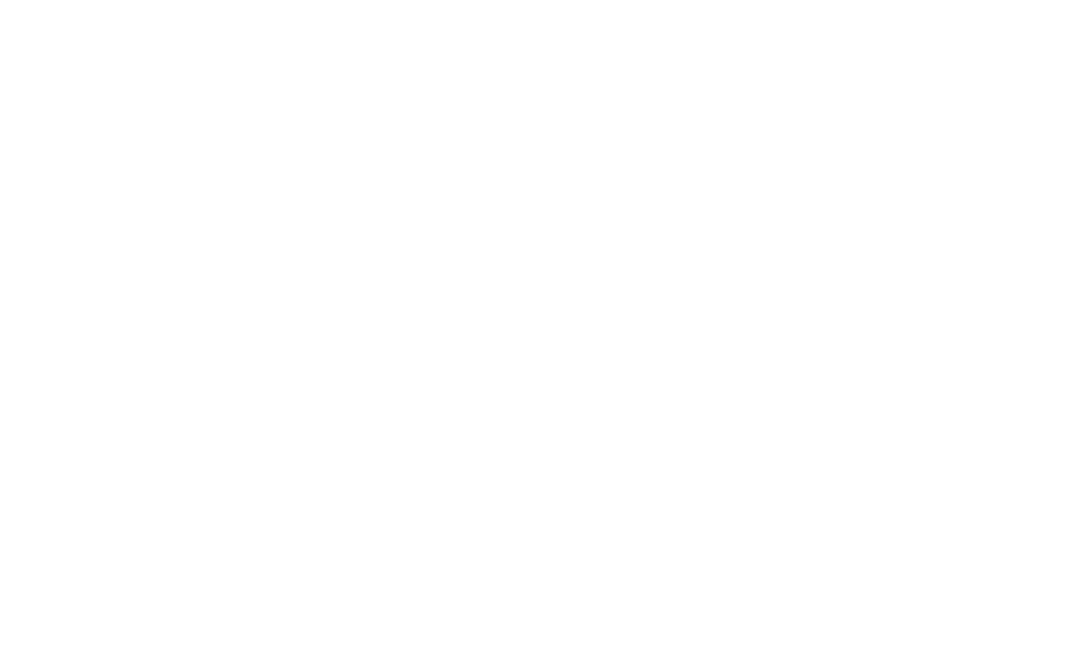
Эскиз декорации к спектаклю «Лес» Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. 1948 г. Художник А. И. Константиновский. Из фондов Александринского театра.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Уж вы не хотите ли мне взаймы дать, Геннадий Демьяныч? Надо правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий*, бывало, никогда товарищу не откажет, последними поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Нет; да ведь если б и были, так они денег не дадут.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Не об деньгах речь! А хорошо бы отдохнуть с дороги, пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых нет? Что же ты за человек?
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да ведь и у вас тоже нет.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. У меня-то есть, да я было хотел мимо пройти, горд я очень. Да уж, видно, завернуть.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ведь и у родных-то тоже не велика радость нам, Геннадий Демьяныч. Мы народ вольный, гулящий, — нам трактир дороже всего. Я у родных-то пожил, знаю. У меня есть дяденька, лавочник в уездном городе, вёрст за пятьсот отсюда, погостил я у него, да кабы не бежал, так...
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Что же?
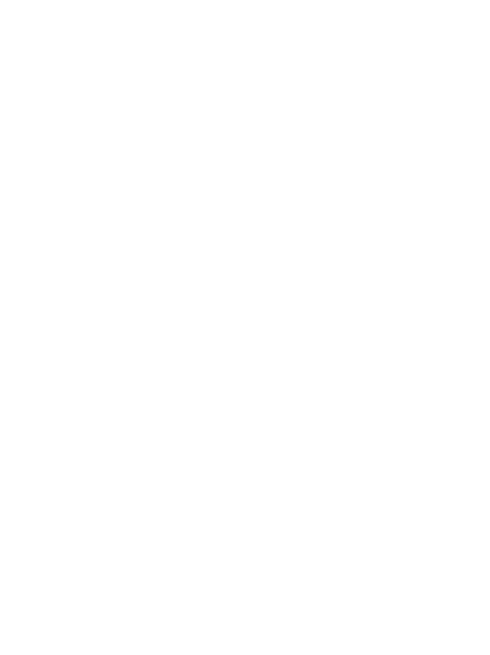
Эскиз костюма Несчастливцева к спектаклю «Лес» Казанского Молодежного театра. 1993 г. Художник О. С. Саваренская. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Нехорошо-с. Да вот я вам расскажу-с. Шлялся я без дела месяца три, надоело; дай, думаю, дяденьку навещу. Ну и пришёл-с. Долго меня в дом не пущали, все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. «Ты, говорит, зачем?» — «Навестить, говорю, вас, дяденька». — «Значит, ты свои художества бросил?» — «Бросил», — говорю. «Ну, что ж, говорит, вот тебе каморка, поживи у меня, только прежде в баню сходи». Стал я у них жить. Встают в четыре часа, обедают в десять; спать ложатся в восьмом часу; за обедом и за ужином водки пей сколько хочешь, после обеда спать. И все в доме молчат, Геннадий Демьяныч, точно вымерли. Дядя с утра уйдёт в лавку, а тётка весь день чай пьёт и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит: «Бессчастный ты человек, душе своей ты погубитель!» Только у нас и разговору. «Не пора ли тебе, душе своей погубитель, ужинать; да шёл бы ты спать».
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Чего ж тебе лучше?
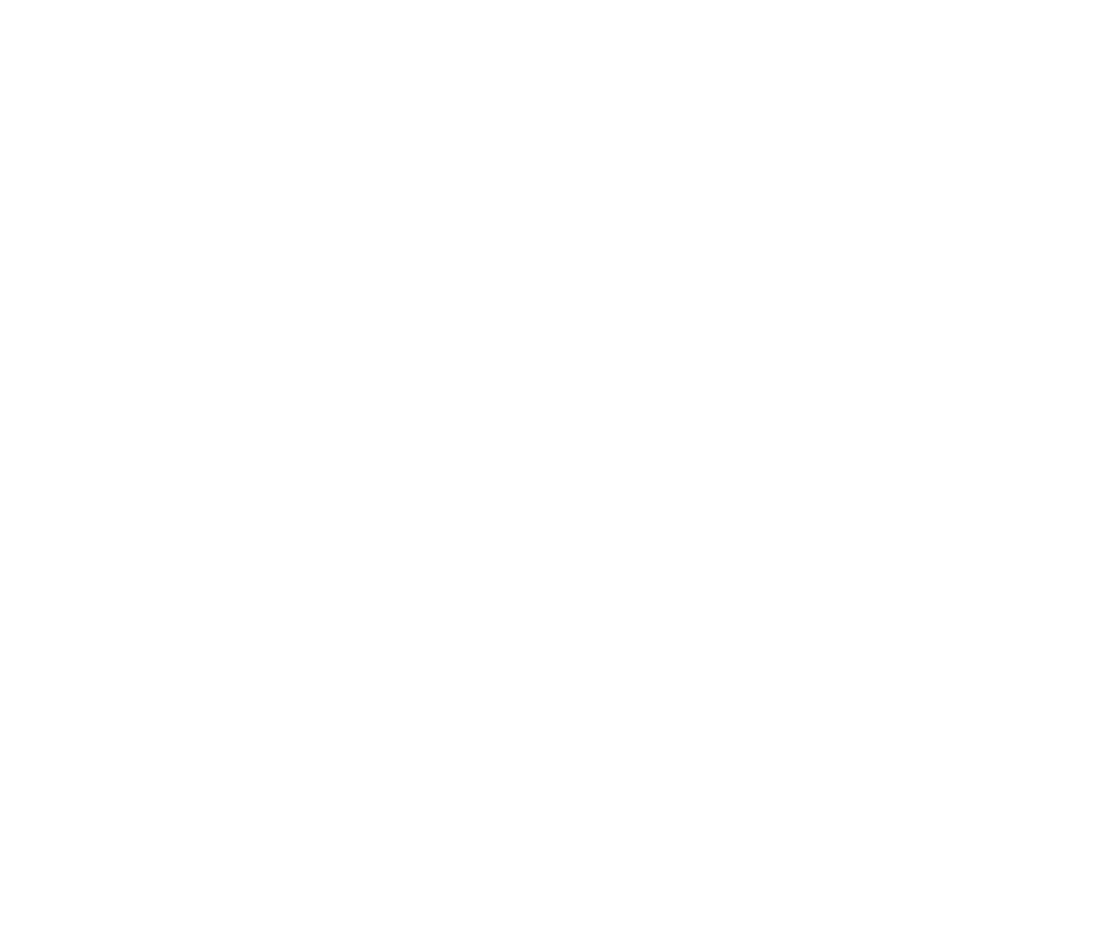
Эскиз декорации ко 2 действию спектакля «Лес» Малого театра (Москва). 1937 г. Художник А. М. Герасимов. Из фондов Музея Малого театра.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Оно точно-с, я было поправился и толстеть уже стал, да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль: не удавиться ли мне? Я, знаете ли, тряхнул головой, чтоб она вышла, погодя немного опять эта мысль, вечером опять. Нет, вижу, дело плохо, да ночью и бежал из окошка. Вот каково нашему брату у родных-то.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Я бы и сам, братец, не пошёл, да, признаться тебе сказать, устал, а ещё до Рыбинска с неделю пропутешествуешь, да и дело-то найдёшь ли, неизвестно. Вот, если бы нам найти актрису драматическую, молодую, хорошую...
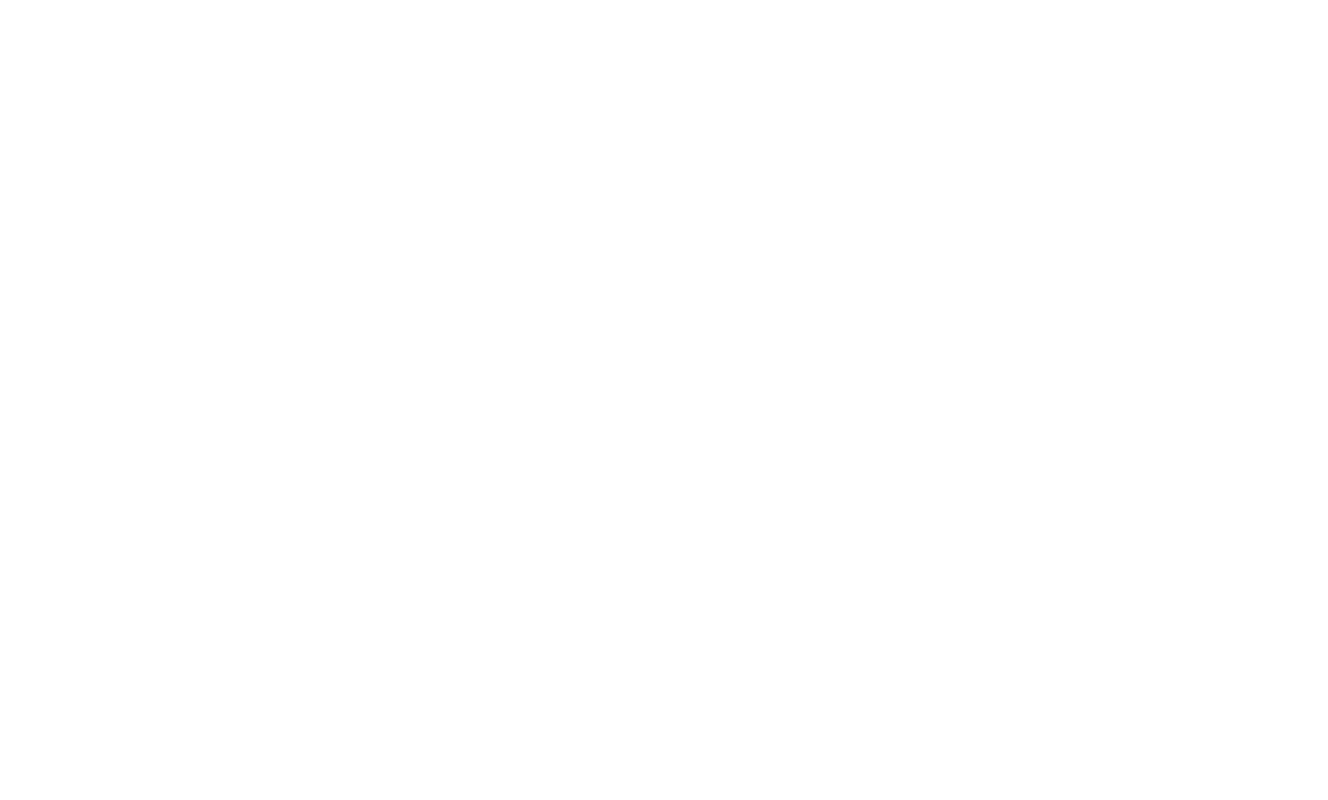
Эскиз декорации ко 2 действию спектакля «Лес» Малого театра (Москва). 1921 г. Художник Д. Н. Кардовский. Из фондов ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. За малым дело стало, актрисы нет.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Да их теперь и нигде нет-с.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ну, уж огня-то, Геннадий Демьяныч, днём с огнём не найдёшь.
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Ты у меня не смей острить, когда я серьёзно разговариваю. У вас, водевильных актёров, только смех на уме, а чувства ни на грош. Бросится женщина в омут головой от любви, — вот актриса. Да чтоб я сам видел, а то не поверю. Вытащу из омута, тогда поверю. Ну, видно, идти.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Куда-с?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Не твоё дело. Пятнадцать лет, братец, не был, а ведь я чуть не родился здесь. Детские лета, невинные игры, голубятни, знаешь ли, всё это в памяти. (Опускает голову.) Что ж, отчего ей не принять меня? Она уж старушка; ей, по самому дамскому счету, давно за пятьдесят лет. Я её не забывал, посылал, братец, ей часто подарки. Из Карасубазара* послал ей туфли татарские, мороженую нельму* из Иркутска, бирюзы — из Тифлиса, кирпичного чаю, братец, из Ирбита*, балык — из Новочеркасска, малахитовые чётки — из Екатеринбурга, да всего и не упомнишь. Конечно, лучше бы нам с тобой подъехать к крыльцу в карете; дворня навстречу... а теперь пешком, в рубище. (Утирает слезы.) Горд я, Аркадий, горд! (Надевает чемодан.) Пойдём, и тебе угол будет.
С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Куда же, Геннадий Демьяныч?
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Куда? (Указывает на столб.) Читай!
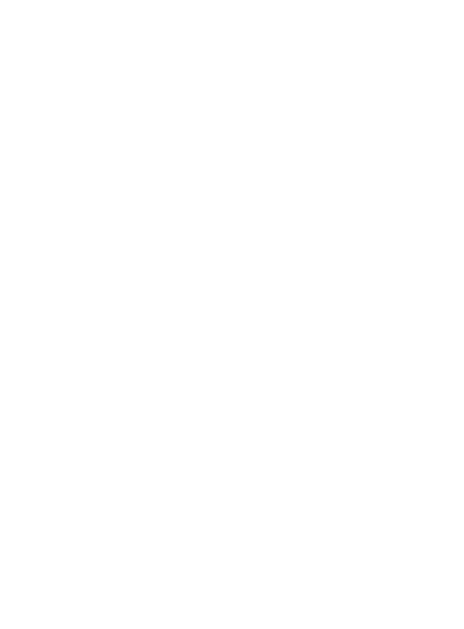
Эскиз костюма Счастливцева к спектаклю «Лес» Казанского Молодежного театра. 1993 г. Художник О. С. Саваренская. Из фондов Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».
Н Е С Ч А С Т Л И В Ц Е В. Туда ведёт меня мой жалкий жребий. Руку, товарищ.
Медленно уходят.
«Выйду я на реченьку,
Погляжу на быструю —
Унеси мое ты горе,
Быстра реченька, с собой!»
(см.: Песни и романсы русских поэтов. Москва; Ленинград: «Советский писатель», 1965. С. 130, 984).