СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМСЯ
Действующие лица:
их дочь
приказчик
Сысой Псоич Рисположенский,
стряпчий
Фоминишна,
ключница
Устинья Наумовна,
сваха
Тишка,
мальчик в доме Большова
Действие первое
Гостиная в доме Большова.
Липочка и Аграфена Кондратьевна.
Л И П О Ч К А. Как, маменька, я и чай пила, и вотрушку скушала. Посмотрите-ко, хорошо? Раз, два, три… раз… два…
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А (преследуя её). Так что ж, что ты скушала? Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь!.. Говорю тебе, не вертись!..
Л И П О Ч К А. Что за грех такой! Нынче все этим развлекаются. Раз… два…
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Лучше об стол лбом стучи, да ногами не озорничай! (Бегает за ней.) Да что ж ты, с чего ж ты взяла не слушаться!
Л И П О Ч К А. Как не слушаться, кто вам сказал! Не мешайте, дайте кончить, как надобно! Раз… два… три…
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Долго ль же мне бегать-то за тобой на старости лет! Ух, замучила, варварка! Слышишь, перестань! Отцу пожалуюсь!
Л И П О Ч К А. Сейчас, сейчас, маменька! Последний кружок! Вас на то и Бог создал, чтоб жаловаться. Сами-то вы не очень для меня значительны! Раз, два…
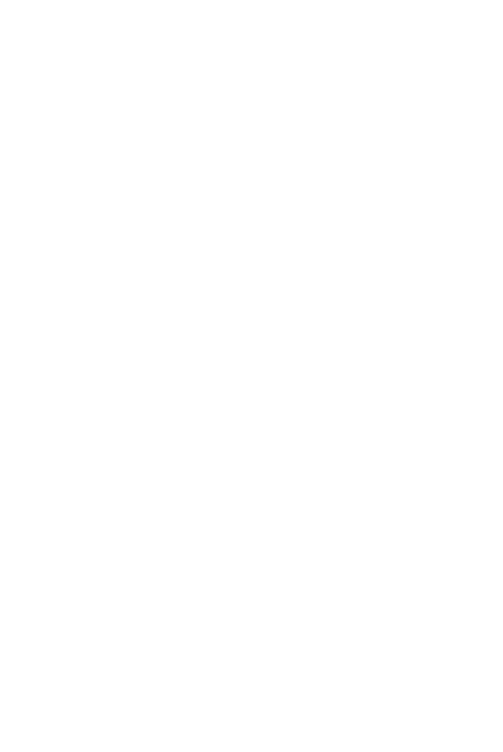
Эскиз костюма Липочки к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Второго драматического театра Группы советских войск в Германии (Потсдам). 1951 г. Художник С. Я. Лагутин. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Как! Ты ещё пляшешь, да ещё ругаешься! Сию минуту брось! Тебе ж будет хуже: поймаю за юбку, весь хвост оторву*.
Л И П О Ч К А. Ну, да рвите на здоровье! Вам же зашивать придётся! Вот и будет! (Садится.) Фу… фу… как упаточилась*, словно воз везла! Ух! Дайте, маменька, платочка пот обтереть.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Постой, уж я сама оботру! Ишь, уморилась! А ведь и то сказать, будто неволили. Коли уж матери не почитаешь, так стен-то бы посовестилась! Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает, а ты тут скачешь, как юла какая!
Л И П О Ч К А. Подите вы с своими советами! Что ж мне делать, по-вашему! Самой, что ли, хворать прикажете? Вот другой манер, кабы я была докторша! Ух! Что это у вас за отвратительные понятия! Ах! Какие вы, маменька, ей-богу! Право, мне иногда краснеть приходится от ваших глупостей!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Каково детище-то ненаглядное! Прошу подумать, как она мать-то честит! Ах ты, болтушка бестолковая! Да разве можно такими речами поносить родителей? Да неужто я затем тебя на свет родила, учила да берегла пуще соломинки?
Л И П О Ч К А. Не вы учили — посторонние; полноте, пожалуйста; вы и сами-то, признаться сказать, ничему не воспитаны. Ну, что ж? Родили вы — я была тогда что? Ребёнок, дитя без понятия, не смыслила обращения. А выросла да посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образованнее. Что ж мне, потакать вашим глупостям! Как же! Есть оказия.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Уймись, эй, уймись, бесстыдница! Выведешь ты меня из терпения, прямо к отцу пойду, так в ноги и брякнусь, житья, скажу, нет от дочери, Самсонушко!
Л И П О Ч К А. Да, вам житья нет! Воображаю. А мне есть от вас житьё? Зачем вы отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не капидон?* Что вы нашли в нём легковерного?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. А то и легковерного, что зубоскал! Приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся. Эка невидаль!
Л И П О Ч К А. Да, много вы знаете! Известно, он благородный человек*, так и действует по-деликатному. В ихнем кругу всегда так делают. Да как ещё вы смеете порочить таких людей, которых вы и понятия не знаете? Он ведь не купчишка какой-нибудь. (Шепчет в сторону.) Душка, милашка!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Да, хорош душка! Скажите, пожалуйста! Жалко, что не отдали тебя за шута за горохового. Ведь ишь ты, блажь-то какая в тебе; ведь это ты назло матери под нос-то шепчешь.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ну, как ты хочешь, там думай. Господь тебе судья! А никто так не заботится о своём детище, как материнская утроба! Ты вот тут хохришься* да разные глупости выколупываешь, а мы с отцом-то денно и нощно заботимся, как бы тебе хорошего человека найти да пристроить тебя поскорее.
Л И П О Ч К А. Да, легко вам разговаривать, а позвольте спросить, каково мне-то?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Разве мне тебя не жаль, ты думаешь? Да что делать-то! Потерпи малость, уж коли много лет ждала. Ведь нельзя же тебе вдруг жениха найти: скоро-то только кошки мышей ловят.
Л И П О Ч К А. Что мне до ваших кошек! Мне мужа надобно! Что это такое! Срам встречаться с знакомыми, в целой Москве не могли выбрать жениха — все другим да другим. Кого не заденет за живое: все подруги с мужьями давно, а я словно сирота какая! Отыскался вот один, так и тому отказали. Слышите, найдите мне жениха, беспременно найдите!.. Вперёд вам говорю, беспременно сыщите, а то для вас же будет хуже: нарочно, вам назло, по секрету заведу обожателя, с гусаром убегу, да и обвенчаемся потихоньку.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Что, что, беспутная! Кто вбил в тебя такие скверности! Владыко милосердый, не могу с духом собраться… Ах ты, собачий огрызок! Ну, нечего делать! Видно, придется отца позвать.
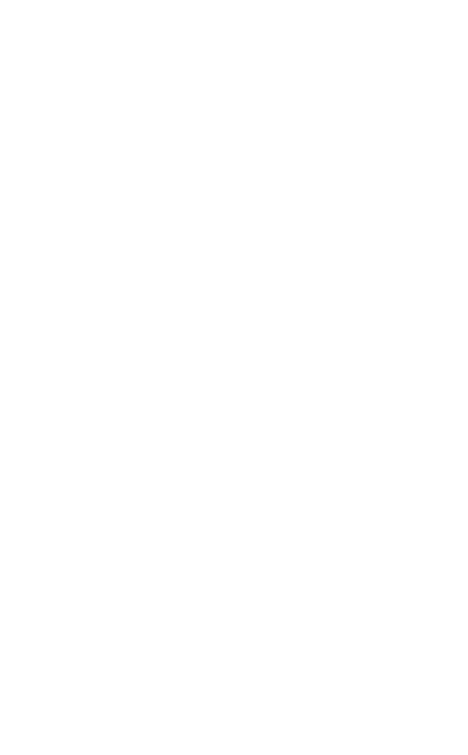
Эскиз костюма Липочки к спектаклю «Свои люди — сочтемся». 1940-е гг. Художник Н. Е. Айзенберг. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Так что же, я дура, по-твоему, что ли? Какие у тебя там гусары, бесстыжий твой нос! Тьфу ты, дьявольское наваждение! Али ты думаешь, что я не властна над тобой приказывать? Говори, бесстыжие твои глаза, с чего у тебя взгляд-то такой завистливый? Что ты прытче матери хочешь быть! У меня ведь недолго, я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! Ишь ты! А!.. Ах матушки вы мои! Посконный сарафан* сошью да вот на голову тебе и надену! С поросятами тебя, вместо родителей-то, посажу!
Л И П О Ч К А. Как же! Позволю я над собой командовать! Вот еще новости!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Молчи, молчи, таранта* Егоровна! Уступи верх матери! Эко семя противное! Словечко пикнешь, так язык ниже пяток пришью. Вот послал Господь утешение! Девчонка хабальная!* Мальчишка ты, шельмец, и на уме-то у тебя все не женское! Готова, чай, вот на лошадь по-солдатски вскочить!
Л И П О Ч К А. Вы, я воображаю, приплетёте скоро всех будочников*. Уж молчали бы лучше, коли не так воспитаны. Всё я скверна, а сами-то вы каковы после этого! Что, вам угодно спровадить меня на тот свет прежде времени, извести своими капризами? (Плачет.) Что ж, пожалуй, я уж и так, как муха какая, кашляю. (Плачет.)
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А (стоит и смотрит на нее). Ну, полно, полно!
Липочка плачет громче и потом рыдает.
Ну, полно ты, полно! Говорят тебе, перестань! Ну, я виновата, перестань только, я виновата.
Липочка плачет.
Липочка! Липа! Ну, будет! Ну, перестань! (Сквозь слезы.) Ну, не сердись ты на меня (плачет)…бабу глупую… неучёную… (Плачут обе вместе.) Ну, прости ты меня… сережки куплю.
Л И П О Ч К А (плача). На что мне сережки ваши, у меня и так полон туалет. А вы купите браслеты с изумрудами.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Куплю, куплю, только ты плакать-то перестань!
Л И П О Ч К А (сквозь слезы). Тогда я перестану, как замуж выду. (Плачет.)
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Выдешь, выдешь, голубчик ты мой! Ну, поцелуй меня!
Целуются.
Ну, Христос с тобой! Ну, дай я тебе слёзки оботру. (Обтирает.) Вот нынче хотела Устинья Наумовна прийти, мы и потолкуем.
Л И П О Ч К А (голосом, еще не успокоившимся). Ах! Кабы она поскорей пришла!
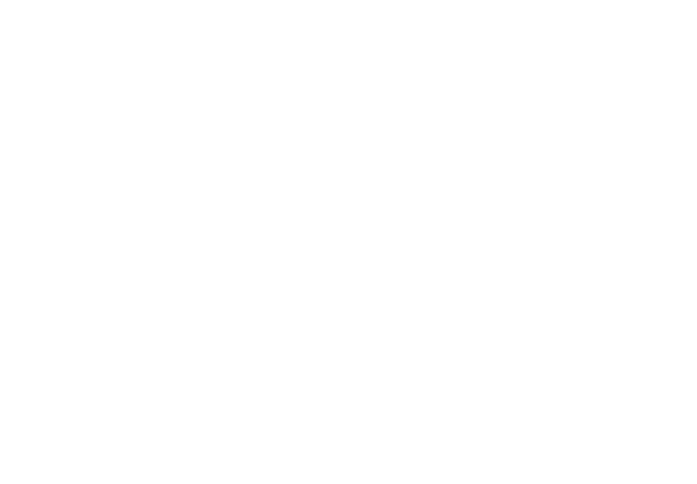
Эскиз декорации к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Малого театра (Москва). 1928 г. Художник Д. Н. Кардовский. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
Те же и Фоминишна.
Ф О М И Н И Ш Н А. Угадайте-ко, матушка Аграфена Кондратьевна, кто к нам изволит жаловать?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Не умею сказать. Да что я тебе, бабка-угадка, что ли, Фоминишна?
Л И П О Ч К А. Отчего ж ты у меня не спросишь, что я, глупее, что ли, вас с маменькой?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Вот уж этого, Фоминишна, я до скончания не разберу.
Л И П О Ч К А. Ишь она! Знать, пивца хлебнула после завтрака, налепила тут чудеса в решете.
Ф О М И Н И Ш Н А. Вестимо так; что смеяться-то? Каково скончание, Аграфена Кондратьевна, бывает и начало хуже конца.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. С тобой не разъедешься! Ты коли уж начнешь толковать, так только ушами хлопай. Кто ж такой там пришёл-то?
Л И П О Ч К А. Мужчина али женщина?
Ф О М И Н И Ш Н А. У тебя всё мужчины в глазах-то прыгают. Да где ж это-таки видано, что мужчина ходит в чепчике? Вдовье дело — как следует назвать?
Л И П О Ч К А. Натурально, незамужняя, вдова.
Ф О М И Н И Ш Н А. Стало быть, моя правда? И выходит, что женщина!
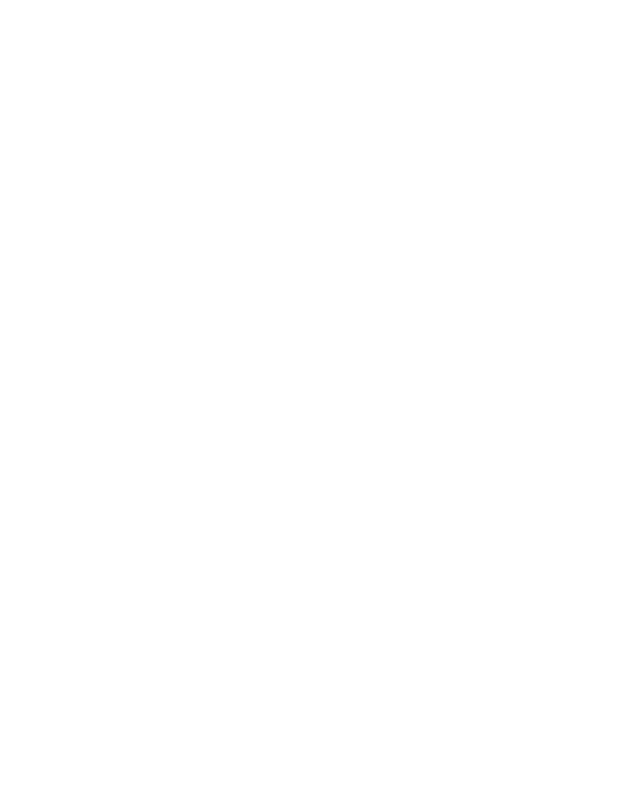
Эскиз костюма Фоминишны к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Малого театра (Москва). 1928 г. Художник Д. Н. Кардовский. Из фондов Музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково».
Л И П О Ч К А. Эка бестолковая! Да кто женщина-то?
Ф О М И Н И Ш Н А. То-то вот, умна, да не догадлива: некому другому и быть, как не Устинье Наумовне.
Л И П О Ч К А. Ах, маменька, как это кстати!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Где ж она до сих пор? Веди её скорей, Фоминишна.
Ф О М И Н И Ш Н А. Сама в секунду явится: остановилась на дворе, с дворником бранится: не скоро калитку отпер.
Те же и Устинья Наумовна.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А (входя). Уф-фа-фа! Что это у вас, серебряные, лестница-то какая крутая: лезешь, лезешь, насилу вползёшь.
Л И П О Ч К А. Ах, да вот и она! Здравствуй, Устинья Наумовна!
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Не больно спеши! Есть и постарше тебя. Вот с маменькой-то покалякаем прежде. (Целуясь.) Здравствуй, Аграфена Кондратьевна, как встала-ночевала, все ли жива, бралиянтовая?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Слава Создателю! Живу — хлеб жую; целое утро вот с дочкой балясничала*.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Чай, об нарядах всё. (Целуясь с Липочкой.) Вот и до тебя очередь дошла. Что это ты словно потолстела, изумрудная? Пошли, творец! Чего ж лучше, как не красотой цвести!
Ф О М И Н И Ш Н А. Тьфу ты, греховодница! Еще сглазишь, пожалуй.
Л И П О Ч К А. Ах, какой вздор! Это тебе так показалось, Устинья Наумовна. Я всё хирею: то колики, то сердце бьется, как маятник; все как словно тебя подмывает али плывёшь по морю, так вот и рябит меланхолия в глазах.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А (Фоминишне). Ну, и с тобой, божья старушка, поцелуемся уж кстати. Правда, на дворе ведь здоровались, серебряная, стало быть и губы трепать нечего.
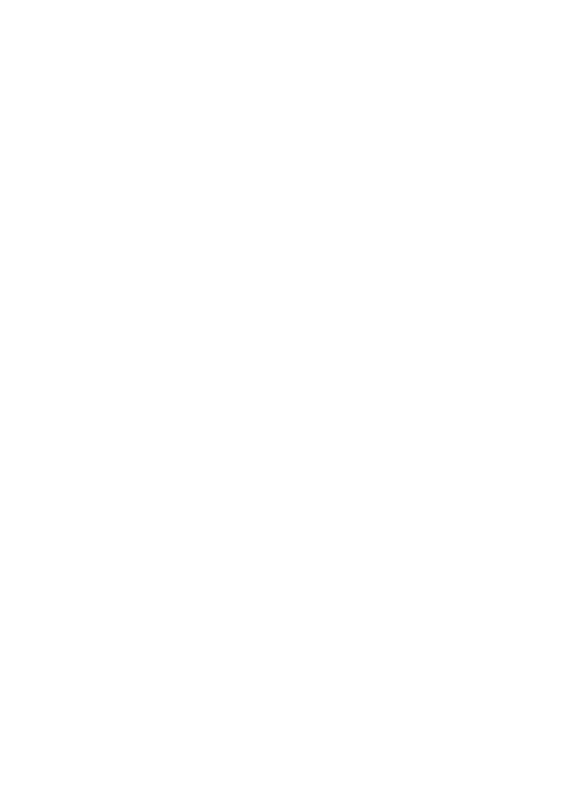
Эскиз костюма Устиньи Наумовны к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Второго драматического театра Группы советских войск в Германии (Потсдам). 1951 г. Художник С. Я. Лагутин. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
Ф О М И Н И Ш Н А. Как знаешь. Известно, мы не хозяева, лыком шитая мелкота, а и в нас тоже душа, а не пар!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А (садясь). Садись, садись, Устинья Наумовна, что как пушка на колёсах стоишь! Поди-ко вели нам, Фоминишна, самоварчик согреть.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Пила, пила, жемчужная; провалиться на месте — пила и забежала-то так, на минуточку.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Что ж ты, Фоминишна, проклажаешься? Беги, мать моя, проворнее.
Л И П О Ч К А. Позвольте, маменька, я поскорей сбегаю, видите, какая она неповоротливая.
Ф О М И Н И Ш Н А. Уж не финти, где не спрашивают! А я, матушка Аграфена Кондратьевна, вот что думаю: не пригожее ли будет подать бальсанцу* с селёдочкой.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ну, бальсан бальсаном, а самовар самоваром. Аль тебе жалко чужого добра? Да как поспеет, вели сюда принести.
Ф О М И Н И Ш Н А. Как же уж! Слушаю! (Уходит.)
Те же без Фоминишны.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ну что, новенького нет ли чего, Устинья Наумовна? Ишь, у меня девка-то стосковалась совсем.
Л И П О Ч К А. И в самом деле, Устинья Наумовна, ты ходишь, ходишь, а толку нет никакого.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Да ишь ты, с вами не скоро сообразишь, бралиянтовые. Тятенька-то твой ладит за богатого: мне, говорит, хоть Федот от проходных ворот, лишь бы денежки водились, да приданого поменьше ломил. Маменька-то вот, Аграфена Кондратьевна тоже норовит в свое удовольствие: подавай ты ей беспременно купца, да чтобы был жалованный, да лошадей бы хороших держал, да и лоб-то крестил бы по-старинному*. У тебя тоже свое на уме. Как на вас угодишь?
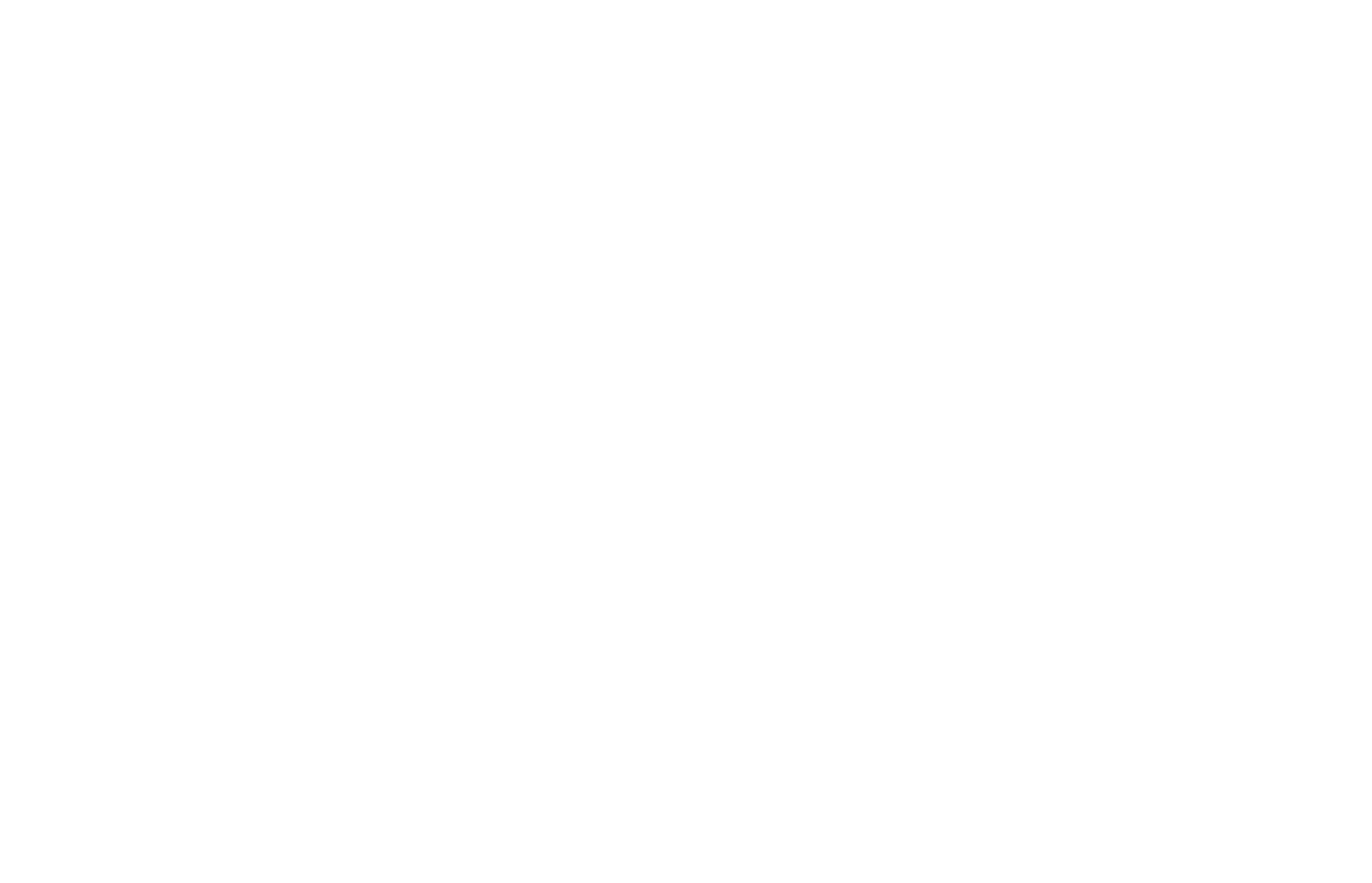
«Благородный жених» («Свои люди — сочтемся»). Художник П. Д. Бучкин. Из фондов СПбГТБ.
Те же и Фоминишна, входит, ставит на стол водку с закуской.
Л И П О Ч К А. Не пойду я за купца, ни за что не пойду. За тем разве я так воспитана: училась и по-французски, и на фортепьянах, и танцевать! Нет, нет! Где хочешь возьми, а достань благородного.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Вот ты и толкуй с ней.
Ф О М И Н И Ш Н А. Да что тебе дались эти благородные? Что в них за особенный скус? Голый на голом, да и христианства-то никакого нет: ни в баню не ходит, ни пирогов по праздникам не печёт; а ведь хоть и замужем будешь, а надоест тебе соус-то с подливкой.
Л И П О Ч К А. Ты, Фоминишна, родилась между мужиков и ноги протянешь мужичкой. Что мне в твоем купце! Какой он может иметь вес? Где у него амбиция*? Мочалка-то его, что ли, мне нужна?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ведь и тятенька твой не оболваненный какой, и борода-то тоже не обшарканная, да целуешь же ты его как-нибудь.
Л И П О Ч К А. Одно дело тятенька, а другое дело — муж. Да что вы пристали, маменька? Уж сказала, что не пойду за купца, так и не пойду! Лучше умру сейчас, до конца всю жизнь выплачу: слёз недостанет, перцу наемся.
Ф О М И Н И Ш Н А. Никак ты плакать сбираешься? И думать не моги! И тебе как в охоту дразнить, Аграфена Кондратьевна!
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. А кто её дразнит? Сама привередничает.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Пожалуй, уж коли тебе такой апекит*, найдем тебе и благородного. Какого тебе: посолидней али поподжаристей?
Л И П О Ч К А. Ничего и потолще, был бы собою не мал. Конечно, лучше уж рослого, чем какого-нибудь мухортика*. И пуще всего, Устинья Наумовна, чтобы не курносого, беспременно чтобы был бы брюнет; ну, понятное дело, чтоб и одет был по-журнальному. (Смотрит в зеркало.) Ах, господи! а сама-то я нынче вся, как веник, растрёпана.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. А есть у меня теперь жених, вот точно такой, как ты, бралиянтовая, расписываешь: и благородный, и рослый, и брюле.
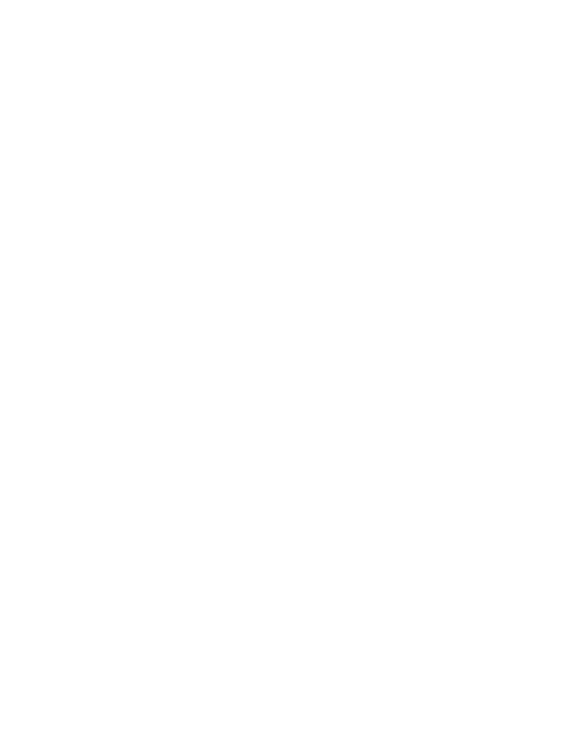
Эскиз грима Липочки к спектаклю «Свои люди — сочтемся» ТЮЗа (Москва). 1932 г. Художник М. С. Варпех. Из фондов ГЦТМ им. А.А.Бахрушина.
Л И П О Ч К А. Ах, Устинья Наумовна! Совсем не брюле, а брюнет.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Да, очень мне нужно, на старости лет, язык-то ломать по-твоему: как сказалось, так и живет. И крестьяне есть, и орден на шее; ты вот поди оденься, а мы-с маменькой-то потолкуем об этом деле.
Л И П О Ч К А. Ах, голубушка, Устинья Наумовна, зайди ужо ко мне в комнату: мне нужно поговорить с тобой. Пойдем, Фоминишна.
Ф О М И Н И Ш Н А. Ох, уж ты мне, егоза!
Уходят.
Аграфена Кондратьевна и Устинья Наумовна.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Можно, бралиянтовая, можно.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А (наливает). Кушай-ко на здоровье!
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Да ты бы сама-то прежде, яхонтовая. (Пьёт.)
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ещё поспею!
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Уах! Фу! Где это вы берете зелье этакое?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Из винной конторы. (Пьет.)
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Вёдрами, чай?
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Вёдрами. Что уж по малости-то, напасешься ль? У нас ведь расход большой.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Что говорить, матушка, что говорить! Ну, уж хлопотала, хлопотала я для тебя, Аграфена Кондратьевна, гранила, гранила мостовую-то*, да уж и выкопала жениха: ахнете, бралиянтовые, да и только.
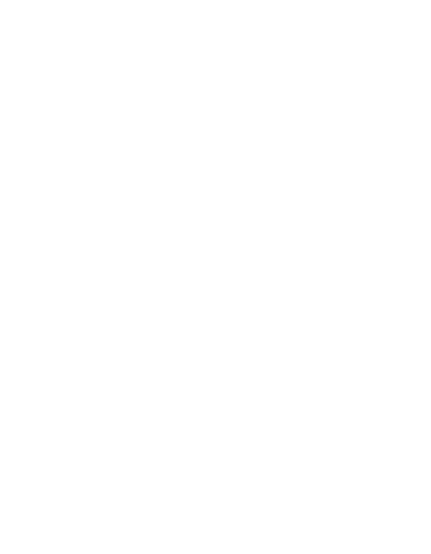
Аграфена Кондратьевна. Художник П. М. Боклевский. Из фондов ГИМ.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Благородного происхождения и значительный человек; такой вельможа, что вы и во сне не видывали.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Видно, уж попросить у Самсона Силыча тебе парочку арабчиков*.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Ничего, жемчужная, возьму. И крестьяне есть, и орген* на шее, а умён как, просто тебе истукан золотой.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ты бы, Устинья Наумовна, вперёд доложила, что за дочерью-то у нас не горы, мол, золотые.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Да у него своих девать некуды.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Хорошо бы это, уж и больно хорошо; только вот что, Устинья Наумовна, сама ты, мать, посуди, что я буду с благородным-то зятем делать! Я и слова-то сказать с ним не умею, словно в лесу.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Оно точно, жемчужная, дико сначала-то, ну, а потом привыкнешь, обойдётесь как-нибудь. Да вот с Самсон Силычем надо потолковать, может, он его и знает, этого человека-то.
Те же и Рисположенский.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Кушай, батюшко, на здоровье! Садиться милости просим; как живете-можете?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Какое уж наше житьё! Так, небо коптим, Аграфена Кондратьевна! Сами знаете: семейство большое, делишки маленькие. А не ропщу, роптать грех, Аграфена Кондратьевна.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Уж это, батюшко последнее дело.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Кто ропщет, значит, тот Богу противится, Аграфена Кондратьевна. Вот какая была история…
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Как тебя звать-то, батюшко? Я всё позабываю.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Сысой Псоич, матушка Аграфена Кондратьевна.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Как же это так: Псович, серебряный? По-каковски же это?
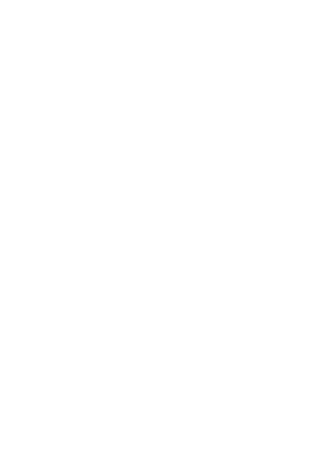
Рисположенский. Художник П. М. Боклевский. Из фондов Музея истории российской литературы имени В.И. Даля.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Не умею вам сказать доподлинно; отца звали Псой — ну, стало быть, я Псоич и выхожу.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. А Псович, так Псович; что ж, это ничего, и хуже бывает, бралиянтовый.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Так какую же ты, Сысой Псович, историю-то хотел рассказать?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Так вот, матушка Аграфена Кондратьевна, была история: не то чтобы притча али сказка какая, а истинное происшествие. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. (Пьёт.)
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Кушай, батюшко, кушай.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й (садится). Жил старец, маститый старец… Вот уж я, матушка, забыл где, а только в стороне такой… необитаемой. Было у него, сударыня ты моя, двенадцать дочерей — мал мала меньше. Сам работать не в силах, жена тоже старуха старая, дети еще малые, а пить-есть надобно. Что было добра, под старость все прожили, поить, кормить некому! Куда деться с малыми ребятами? Вот он так думать, эдак думать — нет, сударыня моя, ничего уж тут не придумаешь. «Пойду, говорит, я на распутие: не будет ли чего от доброхотных дателей». День сидит — Бог подаст, другой сидит — бог подаст; вот он, матушка, и возроптал.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. А, батюшки!
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Господи, говорит, не мздоимец я, не лихоимец я*… лучше, говорит, на себя руки наложить.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ах, батюшко мой!
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. И бысть ему, сударыня ты моя, сон в нощи…
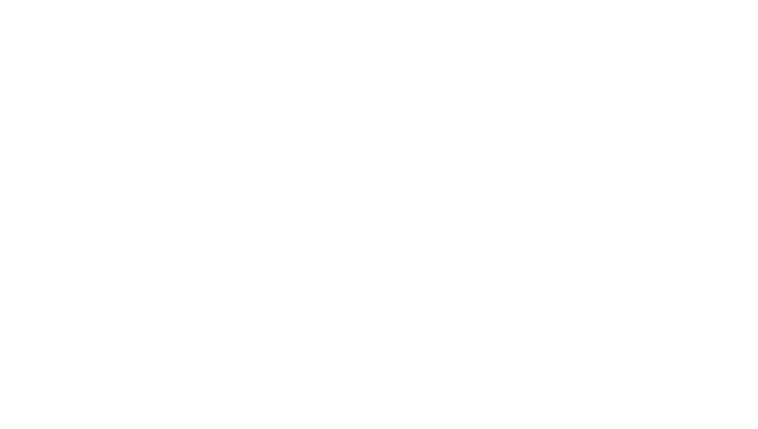
Эскиз декорации к спектаклю «Свои люди — сочтемся». 1940-е гг. Художник Т. И. Чистоева. Из фондов Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка.
Те же и Большов.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й (кланяется). Все ли здоровы, Самсон Силыч?
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Что это ты, яхонтовый, похудел словно? Аль увечье какое напало?
Б О Л Ь Ш О В (садясь). Простудился, должно быть, либо геморрой, что ли, расходился…
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ну, так, Сысой Псович, что ж ему дальше-то было?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. После, Аграфена Кондратьевна, после доскажу, на свободе как-нибудь забегу в сумеречки и расскажу.
Б О Л Ь Ш О В. Что это ты, али за святость взялся! Ха, ха, ха! Пора очувствоваться.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Ну, уж ты начнёшь! Не дашь по душе потолковать.
Б О Л Ь Ш О В. По душе!.. Ха, ха, ха… А ты спроси-ко, как у него из суда дело пропало; вот эту историю-то он тебе лучше расскажет.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Ан нет же, и не пропало! Вот и неправда, Самсон Силыч!
Б О Л Ь Ш О В. А за что ж тебя оттедова выгнали?
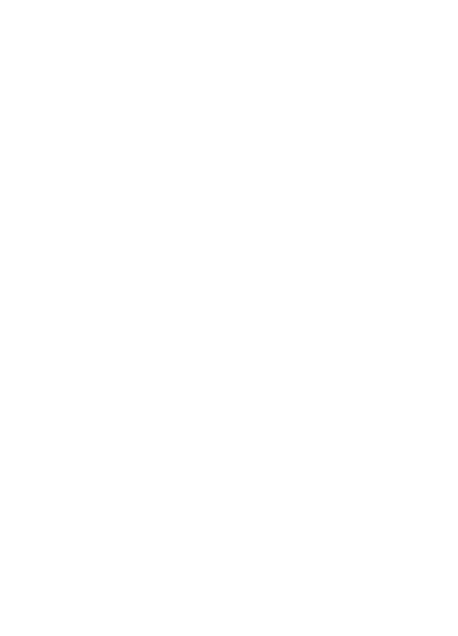
Самсон Силыч Большов. Художник П. М. Боклевский. Из фондов ГИМ.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. А вот за что, матушка Аграфена Кондратьевна. Взял я одно дело из суда домой, да дорогой-то с товарищем и завернули, человек слаб, ну, понимаете… с позволенья сказать, хоть бы в погребок… там я его оставил, да хмельной-то, должно быть, и забыл. Что ж, со всяким может случиться. Потом, сударыня моя, в суде и хватились этого дела-то: искали, искали, я и на дом-то ездил два раза с экзекутором* — нет как нет! Хотели меня суду предать, а тут я и вспомни, что, должно быть, мол, я его в погребке забыл. Поехали с экзекутором — оно там и есть.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Что ж! Не токмо что с пьющим, и с непьющим бывает. Что ж за беда такая!
Б О Л Ь Ш О В. Как же тебя в Камчатку* не сослали?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Уж и в Камчатку! А за что, позвольте вас спросить, за что в Камчатку-то сослать?
Б О Л Ь Ш О В. За что! За безобразие! Так неужели ж вам потакать? Этак вы с кругу сопьётесь.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Ан вот простили. Вот, матушка Аграфена Кондратьевна, хотели меня суду предать за это за самое. Я сейчас к генералу к нашему, бух ему в ноги. Ваше, говорю, превосходительство! Не погубите! Жена, говорю, дети маленькие! Ну, говорит, бог с тобой, лежачего не бьют, подавай, говорит, в отставку, чтоб я и не видал тебя здесь. Так и простил. Что ж! Дай бог ему здоровья! Он меня и теперь не забывает; иногда забежишь к нему на празднике: что, говорит, ты, Сысой Псоич? С праздником, мол, ваше превосходительство, поздравить пришел. Вот к Троице* ходил недавно, просвирку ему принес. Я, Аграфена Кондратьевна, рюмочку выпью. (Пьёт.)
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Кушай, батюшка, на здоровье! А мы с тобой, Устинья Наумовна, пойдем-ко, чай, уж самовар готов; да покажу я тебе, есть у нас кой-что из приданого новенького.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. У вас, чай, и так вороха наготовлены, бралиянтовая.
А Г Р А Ф Е Н А К О Н Д Р А Т Ь Е В Н А. Что делать-то! Материи новые вышли, а нам будто не стать за них деньги платить.
У С Т И Н Ь Я Н А У М О В Н А. Что говорить, жемчужная! Свой магазин, все равно что в саду растёт.
Большов и Рисположенский.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Хе, хе… Самсон Силыч, материал не дорогой. А я вот забежал понаведаться, как ваши делишки.
Б О Л Ь Ш О В. Забежал ты! А тебе больно знать нужно! То-то вот вы подлый народ такой, кровопийцы какие-то: только б вам пронюхать что-нибудь эдакое, так уж вы и вьетесь тут с вашим дьявольским наущением.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Какое же может произойти, Самсон Силыч, от меня наущение? Да и что я за учитель такой, когда вы сами, может быть, в десять раз меня умнее? Меня что попросят, я сделаю. Что ж не сделать! Я бы свинья был, когда б не сделал, потому что я, можно сказать, облагодетельствован вами и с ребятишками. А я ещё довольно глуп, чтобы вам советовать: вы своё дело сами лучше всякого знаете.
Б О Л Ь Ш О В. Сами знаете! То-то вот и беда, что наш брат, купец, дурак, ничего он не понимает, а таким пиявкам, как ты, это и на руку. Ведь вот ты теперь все пороги у меня обобьёшь таскамшись-то.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Как же мне не таскаться-то! Кабы я вас не любил, я бы к вам и не таскался. Разве я не чувствую? Что ж я, в самом деле, скот, что ли, какой бессловесный?
Б О Л Ь Ш О В. Знаю я, что ты любишь, — все вы нас любите; только путного от вас ничего не добьёшься. Вот я теперь маюсь, маюсь с делом, так измучился, поверишь ли ты, мнением только этим одним. Уж хоть бы поскорей, что ли, да из головы вон.

Эскиз костюма Большова к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. 2020 г. Художник В. А. Моор. Из фондов Ирбитского музея изобразительных искусств.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Что ж, Самсон Силыч, не вы первый, не вы последний; нешто другие-то не делают?
Б О Л Ь Ш О В. Как не делать, брат, и другие делают. Да еще как делают-то: без стыда, без совести! На лежачих лесорах* ездят, в трехэтажных домах живут; другой такой бельведер* с колоннами выведет, что ему со своей образиной и войти-то туда совестно; а там и капут, и взять с него нечего. Коляски эти разъедутся неизвестно куда, дома все заложены, останется ль, нет ли кредиторам-то старых сапогов пары три. Вот тебе вся недолга. Да еще и обманет-то кого: так, бедняков каких-нибудь пустит в одной рубашке по миру. А у меня кредиторы все люди богатые, что им сделается!
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Известное дело. Что ж, Самсон Силыч, все это в наших руках.
Б О Л Ь Ш О В. Знаю, что в наших руках, да сумеешь ли ты это дело сделать-то? Ведь вы народец тоже! Я уж вас знаю! На словах-то вы прытки, а там и пошел блудить.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Да что вы, Самсон Силыч, помилуйте, нешто мне в первый раз! Уж еще этого-то не знать! хе, хе, хе… Да такие ли я дела делал… да с рук сходило. Другого-то за такие штуки уж заслали бы давно, куда Макар телят не гонял.
Б О Л Ь Ш О В. Ой ли? Так какую ж ты механику* подсмолишь?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. А там, глядя по обстоятельствам. Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью… (Пьёт.) Вот, первое дело, Самсон Силыч, надобно дом да лавки заложить либо продать. Это уж первое дело.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Незаконно, Самсон Силыч! Это незаконно! В законах изображено, что таковые продажи недействительны. Оно ведь сделать-то недолго, да чтоб крючков* после не вышло. Уж делать, так надо, Самсон Силыч, прочней.
Б О Л Ь Ш О В. И то дело, чтоб оглядок не было.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Как на чужого-то закрепишь, так уж и придраться-то не к чему. Спорь после, поди, против подлинных-то бумаг.
Б О Л Ь Ш О В. Только вот что беда-то; как закрепишь на чужого дом-то, а он, пожалуй, там и застрянет, как блоха на войне.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Уж вы ищите, Самсон Силыч, такого человека, чтобы он совесть знал.
Б О Л Ь Ш О В. А где ты его найдешь нынче? Нынче всякий норовит, как тебя за ворот ухватить, а ты совести захотел.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. А я вот как мекаю, Самсон Силыч, хотите вы меня слушайте, хотите вы — нет: каков человек у нас приказчик?
Б О Л Ь Ш О В. Который? Лазарь, что ли?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Да, Лазарь Елизарыч.
Б О Л Ь Ш О В. Ну, а на Лазаря, так и пускай на него; он малый с понятием, да и капиталец есть.

Эскиз костюма Рисположенского к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. 2020 г. Художник В. А. Моор. Из фондов Ирбитского музея изобразительных искусств.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Что же прикажете, Самсон Силыч: закладную* или купчую*?
Б О Л Ь Ш О В. А с чего процентов меньше, то и варгань*. Как сделаешь все в акурате, такой тебе, Сысой Псоич, могарыч* поставлю, просто сказать, угоришь.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Уж будьте покойны, Самсон Силыч, мы свое дело знаем. А вы Лазарю-то Елизарычу говорили об этом деле или нет? Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. (Пьёт.)
Б О Л Ь Ш О В. Нет ещё. Вот нынче потолкуем. Он у меня парень-то дельный, ему только мигни, он и понимает. А уж сделает-то что, так пальца не подсунешь. Ну, заложим мы дом, а потом что?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. А потом напишем реестрик*, что вот, мол, так и так, по двадцати пяти копеек за рубль: ну, и ступайте по кредиторам. Коли кто больно заартачится, так можно и прибавить, а другому сердитому и все заплатить… Вы ему заплатите, а он — чтобы писал, что по сделке получил по двадцати пяти копеек, так, для видимости, чтобы другим показать. Вот, мол, так и так, ну, и другие, глядя на них, согласятся.
Б О Л Ь Ш О В. Это точно, поторговаться не мешает: не возьмут по двадцати пяти, так полтину* возьмут; а если полтины не возьмут, так за семь гривен* обеими руками ухватятся. Все-таки барыш. Там что хоть говори, а у меня дочь невеста, хоть сейчас из полы в полу да с двора долой. Да и самому-то, братец ты мой, отдохнуть пора; проклажались бы мы лежа на боку, и торговлю всю эту к черту. Да вот и Лазарь идет.
Те же и Подхалюзин (входит).
П О Д Х А Л Ю З И Н. Слава богу-с, идёт помаленьку. Сысою Псоичу! (Кланяется.)
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Здравствуйте, батюшка Лазарь Елизарыч! (Кланяется.)
Б О Л Ь Ш О В. А идёт, так и пусть идёт. (Помолчав.) А вот ты бы, Лазарь, когда на досуге баланц* для меня исделал, учёл бы розничную по панской-то части*, ну и остальное, что там ещё. А то торгуем, торгуем, братец, а пользы ни на грош. Али сидельцы*, что ли, грешат, таскают родным да любовницам; их бы маленичко усовещевал. Что так, без барыша-то, небо коптить? Аль сноровки не знают? Пора бы, кажется.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Как же это можно, Самсон Силыч, чтобы сноровки не знать? Кажется, сам завсегда в городе бываю-с, и завсегда толкуешь им-с.
Б О Л Ь Ш О В. Да что же ты толкуешь-то?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Известное дело-с, стараюсь, чтобы все было в порядке и как следует-с. Вы, говорю, ребята, не зевайте: видишь чуть дело подходящее, покупатель, что ли, тумак* какой подвернулся, али цвет с узором какой барышне понравился, взял, говорю, да и накинул рубль али два на аршин*.
Б О Л Ь Ш О В. Чай, брат, знаешь, как немцы в магазинах наших бар обирают. Положим, что мы не немцы, а христиане православные, да тоже пироги-то с начинкой едим. Так ли, а?
Рисположенский смеётся.

Эскиз костюма Подхалюзина к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Ирбитского драматического театра им. А. Н. Островского. 2020 г. Художник В. А. Моор. Из фондов Ирбитского музея изобразительных искусств.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Дело понятное-с. И мерять-то, говорю, надо тоже поестественнее: тяни да потягивай, только, только чтоб, Боже сохрани, как не лопнуло, ведь не нам, говорю, после носить. Ну, а зазеваются, так никто виноват, можно, говорю, и просто через руку лишний аршин раз шмыгануть.
Б О Л Ь Ш О В. Всё единственно: ведь портной украдёт же. А? Украдёт ведь?
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Украдёт, Самсон Силыч, беспременно, мошенник, украдет; уж я этих портных знаю.
Б О Л Ь Ш О В. То-то вот; все они кругом мошенники, а на нас слава.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Это точно, Самсон Силыч, а то вы правду говорить изволите.
Б О Л Ь Ш О В. Эх, Лазарь, плохи нынче барыши: не прежние времена. (Помолчав.) Что, «Ведомости»* принёс?
П О Д Х А Л Ю З И Н (вынимая из кармана и подавая). Извольте получить-с.
Б О Л Ь Ш О В. Дава-ко-сь, посмотрим. (Надевает очки и просматривает.)
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Я, Самсон Силыч, рюмочку выпью. (Пьёт, потом надевает очки, садится подле Большов а и смотрит в газеты.)
Б О Л Ь Ш О В (читает вслух). «Объявления казённые и разных обществ: 1, 2, 3, 4, 5 и 6, от Воспитательного дома*». Это не по нашей части, нам крестьян не покупать. «7 и 8 от Московского новерситета*, от Губернских правлений*, от Приказов общественного призрения*». Ну, и это мимо. «От Городской шестигласной думы*». А ну-тко-сь, нет ли чего! (Читает.) «От Московской городской шестигласной думы сим объявляется: не пожелают ли кто взять в содержание нижеозначенные оброчные статьи*». Не наше дело: залоги надоть представлять. «Контора Вдовьего дома* сим приглашает…» Пускай приглашает, а мы не пойдем. «От Сиротского суда*». У самих ни отца, ни матери. (Просматривает дальше.) Эге! Вон оно куды пошло! Слушай-ко, Лазарь! «Такого-то года, сентября такого-то дня, по определению Коммерческого суда*, первой гильдии* купец Федот Селиверстов Плешков объявлен несостоятельным должником*; вследствие чего…» Что тут толковать! Известно, что вследствие бывает. Вот-те и Федот Селиверстыч! Каков был туз, а в трубу вылетел. А что, Лазарь, не должен ли он нам?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Малость должен-с. Сахару для дому брали пудов никак тридцать, не то сорок.*
Б О Л Ь Ш О В. Плохо дело, Лазарь. Ну, да мне-то он сполна отдаст по-приятельски.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Сумнительно-с.
Б О Л Ь Ш О В. Сочтёмся как-нибудь. (Читает.) «Московский первой гильдии купец Антип Сысоев Енотов объявлен несостоятельным должником». За этим ничего нет?
П О Д Х А Л Ю З И Н. За масло постное-с, об Великом посту брали бочонка с три-с.
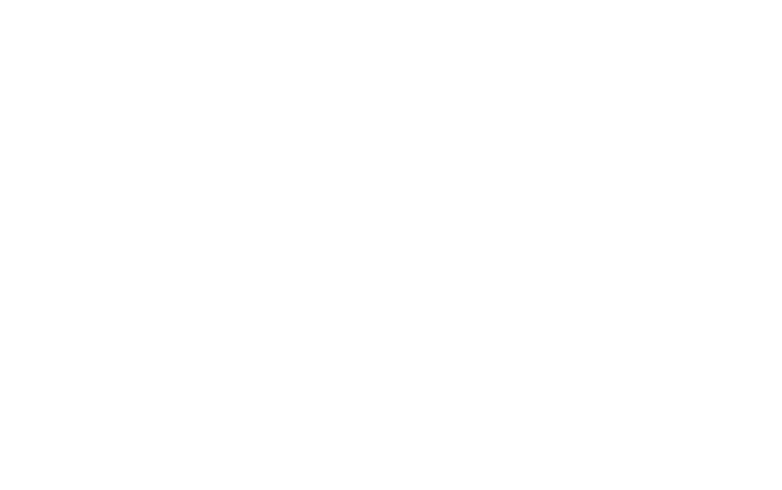
Эскиз декорации к спектаклю «Свои люди — сочтемся» Малого театра (Москва). 1959 г. Художник В. А. Павлович. Из фондов Музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково».
Б О Л Ь Ш О В. Вот сухоядцы-то*, постники*! И Богу-то угодить на чужой счет норовят. Ты, брат, степенству-то* этому не верь! Этот народ одной рукой крестится, а другой в чужую пазуху лезет! Вот и третий: «Московский второй гильдии купец Ефрем Лукин Полуаршинников объявлен несостоятельным должником». Ну, а этот как?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Вексель* есть-с!
Б О Л Ь Ш О В. Протестован*?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Протестован-с. Сам-то скрывается-с.
Б О Л Ь Ш О В. Ну! И четвёртый тут, Самопалов. Да что они, сговорились, что ли?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Уж такой расподлеющий* народ-с.
Б О Л Ь Ш О В (ворочая листы). Да тут их не перечитаешь до завтрашнего числа. Возьми прочь!
П О Д Х А Л Ю З И Н (берет газету). Газету-то только пакостят. На все купечество мораль* эдакая.
Молчание.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Прощайте, Самсон Силыч, я теперь домой побегу: делишки есть кой-какие.
Б О Л Ь Ш О В. Да ты бы посидел немножко.
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Нет, ей-богу, Самсон Силыч, не время. Я уж к вам завтра пораньше зайду.
Б О Л Ь Ш О В. Ну, как знаешь!
Р И С П О Л О Ж Е Н С К И Й. Прощайте! Прощайте, Лазарь Елизарыч! (Уходит.)
Большов и Подхалюзин.
Б О Л Ь Ш О В. Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь, что! Так вот даром и бери деньги. Как не деньги, скажет, видал, как лягушки прыгают. На-ко, говорит, вексель. А по векселю-то с иных что возьмёшь! Вот у меня есть завалящих тысяч на сто, и с протестами; только и дела, что каждый год подкладывай. Хоть за полтину серебра все отдам! Должников-то по ним, чай, и с собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбежались, некого и в яму* посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад: другой так обдержится, что его оттедова куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай. Так ли, Лазарь?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Уж это как и водится.
Б О Л Ь Ш О В. Все вексель да вексель! А что такое это вексель? Так, бумага, да и все тут. И на дисконту* отдашь, так проценты слупят, что в животе забурчит, да еще после своим добром отвечай. (Помолчав.) С городовыми* лучше не связывайся: все в долг да в долг; а привезет ли, нет ли, так слепой мелочью да арабчиками, поглядишь — ни ног, ни головы, а на мелочи никакого звания давно уж нет. А вот ты тут, как хошь! Здешним торговцам лучше не показывай: в любой анбар взойдет, только и дела, что нюхает, нюхает, поковыряет, поковыряет, да и прочь пойдет. Уж диво бы товару не было, — каким еще рожном торговать. Одна лавка москательная*, другая красная*, третья с бакалеей; так нет, ничто не везет. На торги хошь не являйся: сбивают цены пуще черт знает чего; а наденешь хомут, да еще и вязку* подай, да могарычи, да угощения, да разные там недочеты с провесами. Вон оно что! Чувствуешь ли ты это?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Кажется, должен чувствовать-с.
Б О Л Ь Ш О В. Вот какова торговля-то, вот тут и торгуй! (Помолчав.) Что, Лазарь, как ты думаешь?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Да как думать-с! Уж это как вам угодно. Наше дело подначальное.
Б О Л Ь Ш О В. Что тут подначальное: ты говори по душе. Я у тебя про дело спрашиваю.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Это опять-таки, Самсон Силыч, как вам угодно-с.
Б О Л Ь Ш О В. Наладил одно: как вам угодно. Да ты-то как?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Это я не могу знать-с.
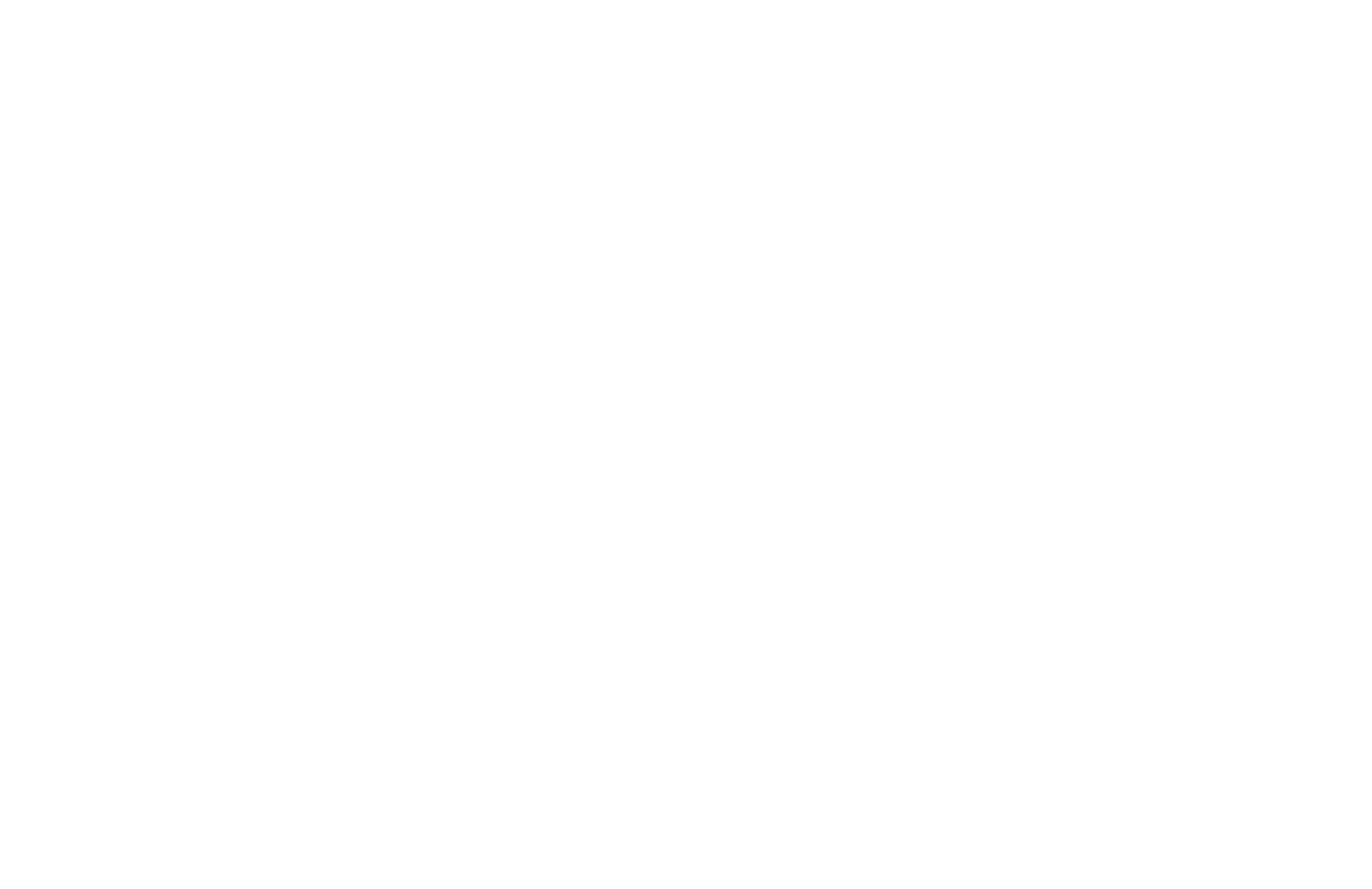
«Не обманешь — не продашь» («Свои люди — сочтемся»). Художник В. А. Тронов. Из фондов СПбГТБ.
Б О Л Ь Ш О В (помолчав). Скажи, Лазарь, по совести, любишь ты меня? (Молчание.) Любишь, что ли? Что ж ты молчишь? (Молчание.) Поил, кормил, в люди вывел, кажется.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Эх, Самсон Силыч! Да что тут разговаривать-то-с, Уж вы во мне-то не сумневайтесь! Уж одно слово: вот как есть, весь тут.
Б О Л Ь Ш О В. Да что ж, что ты весь-то?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Уж коли того, а либо что, так останетесь довольны: себя не пожалею.
Б О Л Ь Ш О В. Ну, так и разговаривать нечего. По мне, Лазарь, теперь самое настоящее время; денег наличных у нас довольно, векселям всем сроки подошли. Чего ж ждать-то? Дождешься, пожалуй, что какой-нибудь свой же брат, собачий сын, оберет тебя дочиста, а там, глядишь, сделает сделку по гривне* за рубль, да и сидит в миллионе, и плевать на тебя не хочет. А ты, честный-то торговец, и смотри да казнись, хлопай глазами-то. Вот я и думаю, Лазарь, предложить кредиторам-то такую статью: не возьмут ли они у меня копеек по двадцати пяти за рубль. Как ты думаешь?
П О Д Х А Л Ю З И Н. А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по двадцати пяти, так пристойнее совсем не платить.
Б О Л Ь Ш О В. А что? Ведь и правда. Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихим-то манером дельцо обделать. Там после суди владыко на втором пришествии. Хлопот-то только куча. Дом-то и лавки я на тебя заложу.
П О Д Х А Л Ю З И Н. Нельзя ж без хлопот-с. Вот векселя надо за что-нибудь сбыть-с, товар перевезти куда подальше. Станем хлопотать-с!
Б О Л Ь Ш О В. Оно так. Да старенек уж я становлюсь хлопотать-то. А ты помогать станешь?
П О Д Х А Л Ю З И Н. Помилуйте, Самсон Силыч, в огонь и в воду полезу-с.
Б О Л Ь Ш О В. Эдак-то лучше! Чёрта ли там по грошам-то наживать! Махнул сразу, да и шабаш. Только на, пусти Бог смелости. Спасибо тебе, Лазарь. Удружил! (Встает.) Ну, хлопочи! (Подходит к нему и треплет по плечу.) Сделаешь дело аккуратно, так мы с тобой барышами-то поделимся. Награжу на всю жизнь. (Идет к двери.)
П О Д Х А Л Ю З И Н. Мне, Самсон Силыч, окромя вашего спокойствия, ничего не нужно-с. Как жимши у вас с малолетства и видемши все ваши благодеяния, можно сказать, мальчишкой взят-с лавки подметать, следовательно, должен я чувствовать.
«Купеческие дочки на балу и маскараде обыкновенно очень молчаливы; замужние – почти неприступны для разговора, позволяя, однако ж, приглашать себя в молчании двигаться под музыку. Здесь вы увидите богатые наряды во всем блеске их безвкусия. Часто головки молоденьких купеческих дочек горят бриллиантами и привлекают лакомые взоры военных и статских женихов, нередко нарочно посещающих Купеческое собрате для того, чтоб высмотреть суженую. В купеческих семействах вы встретите очень миленькие лица, но не удивляйтесь, если иногда на приглашение танцевать вам ответят: "нет-с, не хочу, дайте простыть". Здесь когда жарко, то прохлаждают себя не веером, а платочками; мужчины лишены шляп, военные даже оружия. Пожилые купчихи на балу добровольно лишают себя языка и движутся, довольствуясь одним приятным наблюдением, взорами за своими деточками, подбегающими к ним после каждой кадрили. Маменьки обыкновенно балуют их конфектами, привозимыми с собою в больших носовых платках» (Вистенгоф П. Очерки московской жизни. Москва, 1842. С. 77–78).
«Вид самих будочников был поразительный: одеты они были в серые, солдатского сукна казакины, с чем-то, кажется, красным на вороте, на голове носили каску с шишаком, кончавшимся не острием, как на настоящих военных касках, а круглым шаром. При поясе у них имелся тесак, а в руках будочник, если он был при исполнении обязанностей службы, держал алебарду, совершенно такую, какими снабжают изображающих в театральном представлениях средневековое войско статистов. Орудие это, на первый взгляд и особенно издали казавшееся страшным, а в действительности очень тяжелое и неудобное для какого-либо употребления, стесняло, конечно, хожалых, не обладавших крепостью и выправкой средневековых ландскнехтов, и они часто пребывали без алебарды, оставив ее или у своей будки или прислонив к забору... Будочники были грязны, грубы, мрачны и несведущи. Да к ним никто и не думал обращаться за справками, совершенно сознавая, что они лишь живые «пугала», специально приспособленные для того, чтобы на улицах чувствовалась публикой и была воочию видна власть предержащая. Да случись какое-либо нарушение порядка, было бы кому доставить нарушителя в полицию» (Давыдов Н. В. Из прошлого. Москва, 1914. С. 57–58).
В начале 1860-х гг. будочники-алебардисты исчезли, заменённые городовыми.



